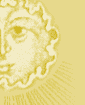Александр Евангели
Существует фундаментальное препятствие — не только для художника — в разгадывании себя.
Существует непреодолимый соблазн — не только для художника — в разглядывании себя.
На перекрестке препятствия и соблазна, самоанализа и нарциссического созерцания брошен, словно камни святилища, автопортрет.
Древняя история портрета сплетена с сакральным страхом человека перед своим изображением — образ обезоруживал человека, делал его уязвимым перед магией и колдовством. Художник давал колдовству опору — и одновременно был тем, кто мог защитить, разделив опасность со своей моделью. На музейных холстах, изображающих монархические кланы, мы находим автопортреты художников — где-нибудь в уголке за мольбертом. Это не честь, как принято думать, но простая безопасность, требование службы охраны первых лиц. Соблазн и препятствие — тот же искусительный микс, на котором замешан автопортрет — сопровождали суверена в его путешествии в иное вместе с художником. В своей готовности творить миф и одновременно развенчивать его автопортрет, подобно магической практике, соединяет в одной метафоре далекие смыслы.
В начале прошлого века портрет как аналитический жанр почти исчез, согласившись с претензией авангарда отражать иное. Энди Уорхол вернул портрету актуальность, осмыслив его как инструмент медиализации, как способ превратить в товар даже то, что этому превращению сопротивляется — личность. Его портретирование оказалось по сути диагностикой современности. Чак Клоуз сделал из автопортрета политическое исследование фотографии как дистанции между образом и медиа, носителем образа.
Современное поле стратегий автопортретирования нуждается в пристальном исследовании. Проект "Автопортрет" — один из первых опытов освоения и картографирования этого поля. Этот проект показывает зрителю набор стратегий саморепрезентации, разные возможности взгляда художника на самого себя и включает более пятидесяти участников, в основном московских.
Наиболее очевидная для зрителя стратегия наследует традиции изображения лица (Борис Орлов, Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов, Мария Шубина, Дмитрий Шорин, Иван Чуйков, Семен Файбисович, Галина Емелина, Сергей Шаблавин и др.) Но, кроме почтенных исторических коннотаций, эта стратегия заключает в себе аналитический опыт поиска другого в себе, поскольку человек находит себя, наблюдая другого. В этой традиции современный автопортрет осмысливается через код другого, как радикальная практика самоотчуждения, когда другим для художника становится он сам.
Следующая, менее очевидная стратегия, хотя и тесно связанная с первой, заключается в метафорическом освоении жанра автопортрета, — когда художник вместо традиционного портретного образа предлагает некую метафору идентичности, с которой и призывает его отождествлять (Дмитрий Гутов, Евгений Гороховский, Константин Батынков, Вячеслав Колейчук, Георгий Литичевский, Игорь Шелковский, Тимофей Смирнов и др.). В этой стратегии за художника через образ говорит истина субъекта. В подобном метафорическом автопортрете художник словно превращает себя в образ, сообщающий о социальной миссии художника, о его предназначении создавать образы.
К метафорической самоидентификации непосредственно примыкает еще одна важная стратегия, заявленная в проекте, — предъявляемый в качестве автопортрета отказ от автопортретирования (например, Наталья Нестерова, Зураб Церетели). При этом отказ всегда совершается в пользу чего-то другого. С этой стратегией связана возникшая в ХХ веке пластическая традиция портрета без лица. Обычно скрытие, и вообще любое вычитание лица в портретных по формальным признакам изображениях (например, у Магрита, Де Кирико, Уиткинса и др.) прочитывается как насильственное утверждение политического или социального порядка, как доминирование коллективной идентичности над индивидуальной.
У некоторых художников (Андрей Бартенев, Сергей Шеховцов, Владимир Янкилевский, Франциско Инфанте и Нонна Горюнова, Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева и др.) мы видим автопортрет как нечто, принципиально невыделенное из ряда других работ. В подобном невыделении автопортрета из других произведений содержится очень серьезная амбиция. Фактически мы имеем дело с предъявлением любой работы как собственного портрета. В этой стратегии говорит о себе намерение художника сделать автопортрет тотальным.
Иными словами, такое произведение сообщает нам о том, что все сделанное художником суть фрагменты автопортрета. Подобный автопортрет утверждает идентичность в непрерывном ее становлении и всю творческую работу как изображение себя. Процесс подобного автопортретирования по своей природе никогда не может быть закончен — со смертью автора он просто обрывается в произвольной точке. И поскольку он не может быть закончен, то и автопортрет, понимаемый как идентификация себя с произведением, всегда остается недописанным.
Вместе с тем очевиден момент стирания идентичности, смысл которого в том, что художник отказывается от портретного, то есть биографического повествования ради спасения собственного произведения. Этот отказ продиктован героическим желанием защитить произведение от однозначной интерпретации. В любом исследовании стратегий создания автопортрета несомненно чувствуется сильный привкус насилия — произведению вменяется внешняя интерпретация со стороны критика или зрителя. Автопортрет противостоит ей в качестве своего рода самоинтерпретации художника.
Согласимся с тем, что истина в этом противостоянии — всегда на стороне художника.