
Гурго, имевший несколько раз неприятности и споры с Лас-Казом, перед его отъездом желал показать ему. что несогласия их происходили не от того, чтоб они не любили друг друга. Он попросил позволения сопровождать Бертрана, которому дозволено было повидаться с Лас-Казом, и они вместе поехали прощаться с несчастным своим сотоварищем, получившим приказание ехать в ссылку [1]. После отъезда Лас-Каза гонения на Лонгвуд продолжались по-прежнему. Обыкновенно через доктора О'Миру губернатор передавал неприятные вести, касавшиеся Наполеона; доктор исполнял эти трудные поручения так осторожно и с такой ловкостью, что ежедневно более и более заслуживал доверие Наполеона и терял доверие сэра Гудсон-Лова. Последний тщательно старался оправдать слова падшего императора, что «ему прислали человека, который хуже тюремщика». Преследования возобновлялись ежедневно, во всех возможных формах. Когда Наполеон просил, чтобы ему дали книгу Пильета об Англии, сэр Гудсон-Лов взял из своей библиотеки книгу под заглавием: Известные обманщики, или История ничтожных людей всех наций, которые назывались императорами и королями самопроизвольно, и, отдавая эту книгу доктору О'Мире, сказал ему: «Отдайте и эту книжку генералу Бонапарту. Тут он, может быть, найдет характер, похожий на его собственный». Таков был человек, присланный английскими министрами, которых Наполеон почитал великодушнейшими из врагов своих. Наполеон верно осудил и характеризовал сэра Гудсон-Лова, когда назвал его сицилийским сбиром; в нем хитрость соединялась с жестокостью, коварство со страстью к мщению. Речи его были зеркалом его души; чувства свои часто выражал он самыми грубыми фразами. Однажды, осыпая бранью верных спутников Наполеона в бедствии, он сказал при всех: «Генералу Бонапарту было бы гораздо лучше, если б он не был окружен такими лжецами, как Монтолон, и таким son of a bitch, как Бертран, который вечно жалуется» [2]. Губернатор был очень недоволен, что при Наполеоне находятся французы. Он желал, чтобы ежедневные мучения и медленная казнь падшего императора не утешались преданностью и дружбой любящих его людей; он желал наказывать жертву несчастья в уединении, не боясь рассказов наблюдателей за его поступками. С этой целью удалил он сначала Лас-Каза, а потом старался удалить доктора О'Миру. «Вы кажетесь мне подозрительным, — говорил нередко Гудсон-Лов доктору, — я вам не могу довериться». И потому писал в Лондон, чтобы вытребовали О'Миру с острова Святой Елены. Пока донос губернатора шел в Лондон, О'Мира, не обращая внимания на подозрения и гнев губернатора, не переставал ежедневно посещать знаменитого больного и доставлял ему не только медицинские пособия, но даже всевозможные утешения, допускаемые обстоятельствами. Он не был подвержен мерам строгости, тяготевшим на прочих жителях Лонгвуда, и доставлял им случай иметь сношения с особами, жившими вне Лонгвуда, за что Наполеон награждал его полным доверием. Когда губернатор не тревожил пленника своими требованиями, что случалось весьма редко, Наполеон занимался рассмотрением Истории знаменитых мужей или рассуждал о важнейших статьях современной политики. Особенно занимался он французской революцией, рассматривал ее начало и общность и очерчивал ее характер с философской высоты и с беспристрастной точки, на которую поставило его бедствие, положив преждевременный конец его политическому существованию. «Французская революция, — говорил он, — произошла не от столкновения двух династий, споривших о престоле; она была общим движением массы... Она уничтожила все остатки времен феодализма и создала новую Францию, в которой повсюду было одинаковое судебное устройство, одинаковый административный порядок, одинаковые гражданские законы, одинаковые законы уголовные, одинаковая система налогов... В новой Франции двадцать пять миллионов людей составляли один класс, управляемый одним законом, одним учреждением, одним порядком...» Наполеон предвидел, что движение беспокойных умов во Франции не остановилось. «Через двадцать лет, когда я уже умру и буду лежать в могиле, вы увидите во Франции новую революцию». Слова эти были замечены и переданы доктором О'Мирой. Последствия показали, что дальновидный ум пленника на острове Святой Елены не ошибся и в этом случае. От истории Наполеон часто переходил к оценке собственного своего царствования и своей жизни. «Пусть стараются, — говорил он, — урезывать, безобразить, коверкать мои поступки, все-таки трудно будет совершенно уничтожить меня. Историк Франции все-таки будет рассказывать, что происходило во время империи, и будет вынужден выделить некоторую часть подвигов на мою долю, и это ему почти не представит труда: факты говорят сами за себя, блестят, как солнце. Я убил чудовище анархии, прояснил хаос. Я обуздал революцию, облагородил нацию и утвердил силу верховной власти. Я возбудил соревнование, награждал все роды заслуг и отодвинул пределы славы. Все это чего-нибудь стоит! На каком пункте станут нападать на меня, которого не мог бы защитить историк? Станут ли бранить мои намерения? Он объяснит их. Мой деспотизм? Историк докажет, что он был необходим по обстоятельствам. Скажут ли, что я стеснял свободу? Он докажет, что вольность, анархия, великие беспорядки стучались к нам в дверь. Обвинят ли меня в страсти к войне? Он докажет, что всегда на меня нападали. Или в стремлении к всемирной монархии? Он покажет, что оно произошло от стечения неожиданных обстоятельств, что сами враги мои привели меня к нему. Наконец, обвинят ли мое честолюбие? А! Историк найдет во мне много честолюбия, но самого великого, самого высокого! Я хотел утвердить царство ума и дать простор всем человеческим способностям. И тут историк должен будет пожалеть, что такое честолюбие осталось неудовлетворенным!.. Вот, в немногих словах, вся моя история!» (Memorial). [3] Гудсон-Лов решился отнять О'Миру у Наполеона, так же, как разлучил с ним Лас-Каза. Не получив из Лондона позволения на высылку доктора с острова Святой Елены, он подвергнул О'Миру таким стеснительным и оскорбительным распоряжениям, чтобы тот не мог выдержать их и старался бы избавиться от них поскорее, подав в отставку. Намерение губернатора удалось вполне. О'Мира, заключенный в тесных пределах Лонгвуда, лишенный общества англичан, не имея ни с кем сношений, кроме медицинских, обратился к адмиралу Планпену с просьбою об отмене такого скучного ареста; но адмирал не захотел принять его. О'Мира вынужден был подать в отставку и тотчас написал об этом губернатору. Но комиссары союзных держав, видя, что здоровье императора требовало беспрерывных попечении, и что отъезд доктора, если не приедет немедленно его преемник, может повлечь за собою неприятные последствия и навлечь на них строгую ответственность, настоятельно требовали от губернатора, чтобы доктор О'Мира продолжал по-прежнему лечить лонгвудского пленника. После долгих и жарких споров Гудсон-Лов согласился на их требование, думая, что доносами, отправляемыми в Лондон, достигнет наконец своей цели и успеет удалить ненавистного ему доктора. Он начал тем, что уговорил командира 66-го полка, который пришел на смену 53-му, исключить О'Миру из числа офицеров, обедавших за общим столом. Пока шла деятельная переписка об этой новой обиде, доктор получил письмо от подполковника Эдуарда Вейниара (Wyniard), который уведомлял его от имени Гудсон-Лова, что граф Батурст решением от 16 мая 1818 года приказал ему прекратить все сношения с генералом Бонапартом, равно как и с другими жителями Лонгвуда. «Человеколюбие, - говорит О'Мира, — обязанности моего звания и тогдашнее опасное положение здоровья Наполеона запрещали мне повиноваться этому бесчеловечному распоряжению... Я немедленно решился по-прежнему пользовать Наполеона, какие бы ни были последствия моей решимости. Здоровье Наполеона требовало, чтобы я не оставлял его и сам приготовлял ему лекарства, потому что у меня не было помощника». Доктор приехал в Лонгвуд и сообщил Наполеону о приказании графа Батурста. «Я умру скорее, — сказал Наполеон, — им кажется, что я живу слишком долго». О'Мира дал Наполеону медицинские советы, которым он должен был следовать после его отъезда. Когда доктор замолчал, Наполеон сказал ему с жаром и чувством: «Когда приедете в Европу, сходите к брату моему, Иосифу, или пошлите к нему; он отдаст вам пакет с письмами, которые я получал от разных знаменитых лиц. Я отдал ему их в Рошфорте. Напечатайте их; они покроют стыдом многих и покажут, как все мне поклонялись, когда я был в силе. Теперь, когда я состарился, меня стесняют, разлучают с женой, с сыном. Прошу вас исполнить мое поручение. Если услышите клевету на меня и сможете опровергнуть ее достоверным свидетельством, опровергайте и рассказывайте то, что здесь видели». Потом Наполеон продиктовал генералу Бертрану письмо и сделал на нем собственноручную приписку, в которой рекомендовал доктора супруге своей. Кроме того, он поручил доктору собрать сведения о его семействе и рассказать его положение родственникам. «Скажите, что я до сих пор люблю их по-прежнему, — прибавил он, — выразите чувства моей любви к Марии-Луизе, к моей доброй матери и к Полине. Если увидите моего сына, поцелуйте его за меня; пусть никогда не забывает, что родился французским принцем. Скажите леди Голланд, что я помню ее дружбу и сохраняю к ней полное уважение. Наконец, постарайтесь доставить мне верные сведения о воспитании моего сына. — Потом взял руку доктора, обнял его и опять сказал: — Прощайте, О'Мира, мы более не увидимся; будьте счастливы!» Но не все печальные потери для Наполеона совершились. Едва О'Мира уехал с острова Святой Елены, как и Гурго вынужден был возвратиться в Европу, потому что зловредный климат острова породил в нем болезнь, которая становилась страшной. Прибыв в Европу, генерал Гурго рассказал всем о своих опасениях насчет здоровья императора. Родные великого полководца, глубоко опечаленные, беспокоились еще более. Особенно мать его, узнав, что сын, доставлявший ей всегда счастье и славу, страдает болезнью, которая может превратиться в смертельную, и не имеет при себе доктора; мать его, всегда нежная и добрая к нему, огорчилась и опечалилась более всех других родственников. Она заставила кардинала Феша вступить в сношения с лордом Батурстом; скоро кардинал достиг цели, то есть госпоже Летиции дали позволение послать на остров Святой Елены доктора Антомарки, пастора и еще двух человек. 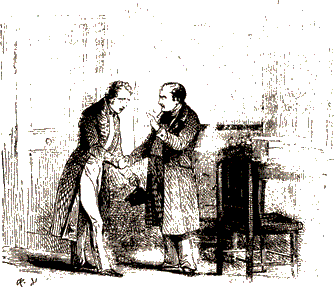 Антомарки прибыл на остров Святой Елены 18 сентября 1819 года. Он был принят, к своему великому удивлению, очень ласково Гудсон-Ловом, который, впрочем, жаловался на гордость, суровость и протестации генерала Бонапарта. Но этот прием не помешал, однако, достойным агентам губернатора, Риду и Горрскеру, исполнить поручения, на них возложенные. Горрекер с извинениями пересмотрел письма, рукописи и планы, посылаемые в Лонгвуд, а Рид без всяких извинений строго досмотрел имущество Антомарки и его товарищей, между которыми находились два пастора, аббаты Буонавита и Виньяли. В Лонгвуде Антомарки был принят не так хорошо, как в Плантешен-Гуз (место жительства губернатора, Plantation-House). Императора никто не предупредил о приезде доктора — ни кардинал Феш, ни кто-либо другой из членов его семейства, и потому Наполеон сначала не решался его принять. Все, что проходило через Англию или через руки английского министерства, казалось ему подозрительным. Однако Антомарки при первом свидании рассеял его подозрения. Его едва не отослали, не выслушав его объяснений. «Вы корсиканец, — сказал Наполеон, — это одно обстоятельство спасло вас». Когда между ними возродилось доверие, Наполеон расспрашивал о своей матери, супруге, о братьях и сестрах, о Лас-Казе, О'Мире, лорде и леди Гол-ланд. Когда все расспросы кончились, доктора отпустили домой; но через несколько часов опять пригласили его к Наполеону. Он должен был рассмотреть признаки болезни Наполеона, на помощь которой поспешил он из Италии через необъятное пространство океана. — Ну, доктор, — спросил Наполеон, — что вы думаете? Долго ли я буду еще тревожить сон королей? — Вы их переживете, ваше величество! — И я так думаю. Они не могут уничтожить слухов о наших победах; предание о них перейдет через века и расскажет, кто побеждал, кто был побежден; кто был великодушен, а кто нет. Потомство станет судить, и я не боюсь его приговора. — Вы далеко еще от конца жизни, вы долго еще проживете. — Нет, доктор, подвиг англичан почти совершен: я недолго проживу в этом страшном климате. Однако он согласился следовать предписаниям медицины, против которой постоянно восставал. «Вы оставили все, чтобы представить мне помощь медицинской науки, — прибавил он, — справедливость требует, чтоб и я что-нибудь сделал со своей стороны, я решаюсь повиноваться». Потом рассказал он доктору все, что вытерпел со времени отъезда О'Мира. «Вот уже год, — говорил он, — как не оказывали мне никакой медицинской помощи. Я лишен медиков, которым мог бы верить. Губернатор находит, что я умираю слишком медленно; он ускоряет, призывает смерть мою всеми своими желаниями. Даже воздух, которым я дышу, наносит раны его грязной душе. Знаете ли, что его попытки часто повторялись открыто; я едва не погиб от английского кинжала? Генерал Монтолон заболел, а губернатор не захотел иметь сношений с Бертраном и требовал, чтобы я имел с ним прямую переписку. Сателлиты его приходили ко мне по два раза в день. Рид, Вейньяр, офицеры, удостоенные его доверия, осаждали наши несчастные хижины, хотели проникнуть в мои комнаты. Я велел запереть двери, зарядить ружья, пистолеты, которые до сих пор заряжены, и грозил, что раздроблю голову первому, кто осмелится нарушить права моего убежища. Они ушли, крича во все горло, что хотят видеть Наполеона Бонапарта, что Наполеон Бонапарт должен к ним выйти; что они сумеют заставить Бонапарта показаться им. Я думал, что эти оскорбительные явления кончились; но они возобновлялись ежедневно с большим насилием. Беспрерывно обманывали меня, грозили мне, ругались, писали мне письма, исполненные оскорблений. Мои камердинеры бросали их в огонь, но разгар ненависти был ужасный; развязка могла последовать немедленно. Никогда не находился я в такой опасности. Тогда было 16 августа: борьба наша продолжалась с 11-го. Я дал знать губернатору, что решаюсь на все... что терпение мое лопнуло; что первый из его посланных, который перешагнет через порог моего дома, будет убит пистолетной пулей. Он внял словам моим и прекратил эти оскорбления... Я свободно и добровольно отказался от престола в пользу моего сына. Я еще свободнее отправился в Англию. Я хотел жить там в уединении и под защитой законов... Я был перед всеми великодушен, милостив; но нее меня оставили, бросили, изменили мне, надели на меня цепи. Я завишу от морского разбойника!» В продолжение полутора лет Антомарки деятельно и усердно боролся против болезни, которая уже наводила страх на жителей Лонгвуда. Он знал уже задолго до рокового дня, что усилия его тщетны и бесполезны. В середине марта 1821 года он писал в Рим к кавалеру Колонна, камергеру Летиции, письмо, которое заставляло предугадывать скорую развязку. «Английские журналы, — писал он, — беспрерывно повторяют, что здоровье императора находится в хорошем положении, но не верьте им. Событие покажет, до какой степени верны или искренни люди, сообщающие эти известия». Через несколько дней Наполеон, понимавший свое положение, откровенно объяснился с доктором Антомарки, который сохранил для нас следующий разговор: «Все кончено, доктор, несмотря на ваши пилюли; не так ли?» — «Нимало, ваше величество!» — «Хорошо! Вот еще медицинский обман. Как вы думаете, какое действие произведет смерть моя на Европу?» — «Никакого, ваше величество!» — «Как! Никакого?» — «Да, потому что вы не умрете». — «А если умру?» — «Тогда, ваше величество...» — «Что же тогда?» — «Солдаты обожают ваше величество, они будут в отчаянии...» — «А сын мой? Неужели он не достигнет престола?» — «Не знаю, какое расстояние отделяет...» — «Не более того, которое я сам перешагнул». — «Сколько препятствий надобно преодолеть». — «А я разве не победил их! Разве моя точка отправления была выше... Он носит мое имя; я завещаю ему свою славу и приязнь друзей моих; более ничего не нужно для получения моего наследства!» «То было заблуждение умирающего отца, — говорит Антомарки, — жестоко было бы разрушить его». Император лежал в постели с 17 марта. Офицер, которому поручено было ежедневно удостоверяться, точно ли Наполеон находится в Лонгвуде, не видя его в продолжение нескольких дней, донес об этом губернатору. Гудсон-Лов вообразил, что ему изменили, и сам стал ходить около жилища пленника, желая узнать, не сбежал ли он. Его прогулки и розыски не могли доставить никаких сведений о том предмете, который он хотел знать с таким нетерпением. Потеряв надежду и терпение, он объявил, что придет лично в Лонгвуд со всем своим штабом и войдет насилием в комнату больного, не заботясь о несчастных последствиях, какие может иметь это насильственное вторжение, если агент его не получит возможности видеть генерала Бонапарта и удостовериться в его присутствии. Тщетно генерал Монтолон старался отклонить намерение неумолимого губернатора, описывая ему горестное положение императора, достойное сожаления и участия. Сэр Гудсон-Лов отвечал, что ему решительно все равно, будет ли генерал Бонапарт жив или умрет; что он, по долгу своему, обязан удостовериться, точно ли генерал находится в Лонгвуде, и непременно исполнит свою обязанность. Находясь в этом раздражении и досаде, Гудсон-Лов встретил Антомарки, который с гневом и желчью упрекал его за такие зверские намерения и постыдные поступки. Сэр Гудсон-Лов не захотел даже слушать его; кипя гневом, он удалился, а Антомарки продолжал упрекать гонителей великого полководца, обращаясь к Риду: «Надобно иметь душу, слепленную из грязи, взятой со дна Темзы, чтобы подсматривать последний вздох умирающего человека! Вам кажется, что агония его продолжается слишком долго; вы хотите ускорить ее, хотите наслаждаться ею!.. Кимвр, которому было поручено умертвить Мария, не посягнул на преступление!.. А вы!.. О! Если бесславие всегда равняется преступлению, то потомство жестоко отомстит за нас!» Сэр Гудсон, раздраженный ответами Антомарки, оставался непоколебимым в своем жестоком намерении и готовился исполнить свои угрозы. Зная, что от англичанина нельзя ожидать пощады, Бертран и Монтолон уговорили императора допустить к себе для консультаций доктора Арно (Arnold), которому было поручено: ежедневно свидетельствовать агенту Гудсон-Лова о присутствии пленника в Лонгвуде. Скоро заботы губернатора должны были прекратиться. 19 апреля сам Наполеон возвестил близость своей кончины своим друзьям, которые думали, что ему лучше.  «Вы нимало не ошибаетесь, — сказал он им, — мне в самом деле сегодня гораздо лучше; но все-таки я чувствую, что конец мой приближается. Когда я умру, каждый из вас получит сладкое утешение, возможность возвратиться в Европу. Каждый из вас увидит или любезных друзей, или родных, близких сердцу, а я встречусь с моими храбрыми. Да, — продолжал он, возвысив голос, — Клебер, Дезе, Бессьер, Дюрок, Ней, Мюрат, Массена, Бертье — все выйдут ко мне навстречу, станут говорить о подвигах, совершенных нами вместе. Я расскажу им последние события моей жизни. Увидев меня, они сойдут с ума от восторга и славы. Мы будем рассказывать походы наши Сципионам, Анибалам, Цезарям, Фридрихам!.. Как это будет отрадно!.. О! — прибавил он с улыбкой, — как бы испугалась Европа, если б увидала такое собрание героев, полководцев и воинов!» В это самое время пришел доктор Арно. Император принял его очень ласково, говорил ему о своих страданиях, о боли, которую он чувствовал, а потом, внезапно прервав разговор, сказал торжественным голосом: «Все кончено, доктор, удар нанесен, я приближаюсь к концу, скоро отдам труп мой земле. Подойдите, Бертран; переводите то, что от меня услышите: это будут оскорбления, достойные тех, которыми нас терзали; передайте все без исключения, не пропускайте ни одного слова. Я сам предался английскому народу; я просил честного гостеприимства, а мне ответили темницей в противность всех прав, существующих в мире. Не такой прием получил бы я от императора Александра; император Франц принял бы меня с уважением; король прусский тоже показал бы свое великодушие. Но Англия обманула меня. Ваши министры выбрали эту страшную скалу, на которой жизнь всякого европейца истощается за шесть месяцев или еще менее; и на ней-то вы замучили меня до смерти. Как обращались вы со мною с тех пор, как я сослан на этот голый утес? Какими жестокими поступками, какими дерзкими оскорблениями не старались вы удручить меня? Вы мне запрещали даже самые обыкновенные, самые простые сношения с семьей, как никто, никогда, никому не запрещал. Вы не допускали до меня никаких известий, никаких бумаг из Европы; жена моя, даже сын мой не существовали для меня более; в продолжение шести лет вы содержали меня в ужасной пытке тайны. И на этом негостеприимном острове вы назначили мне жилище в самой невыгодной его части, там, где смертоносный климат тропиков наиболее чувствителен. Я вынужден был запереться в четырех стенах, — я, который прежде проезжал верхом по всей Европе! Жить в несносном, зараженном воздухе... Вы убивали меня медленно, помаленьку, с злоумышлением, а бесчестный Гудсон служил исполнителем гибельных повелений ваших министров. Вы кончите существование свое, как гордая Венецианская республика, а я, умирая на этом страшном утесе, лишенный родных и всего для меня необходимого, я завещаю Англии стыд и поношение моей смерти». Диктование ослабило больного и истощило его силы; через несколько минут он впал в забытье. На другой день он имел, однако, столько сил, что встал на рассвете с постели и в течение трех часов мог заниматься диктованием и письмом. Но все эти слабые признаки улучшения не подавали никакой прочной надежды на его выздоровление. Скоро возобновилась лихорадка, и больной быстро приближался к концу. 21 апреля он приказал призвать к себе аббата Виньяли. «Знаете ли вы, аббат, — сказал он ему, — что такое траурная капелла?» — «Да, ваше величество». — «А служили ли вы когда-нибудь в траурной капелле?» — «Никогда не случалось». — «Ну, так будете служить в моей!» — Сказав эти слова, он в подробности объяснил аббату, как и что следует ему делать. «Лицо его, — рассказывает Антомарки, — было оживлено и обеспокоено конвульсиями; я с беспокойством следил за переменами в нем, когда он заметил на лице моем какое-то движение, которое ему не понравилось. "Вы не разделяете моих религиозных правил, — сказал он, — но мне все равно, я не философ и не доктор, верю в Бога, привержен к религии моих отцов и не намерен быть безбожником. — Потом, обратясь к аббату Виньяли, Наполеон прибавил: — Я родился католиком, исповедую католическую религию; хочу исполнить обязанности, которые она мне предписывает и воспользоваться благодеяниями, которые она предлагает"». Когда аббат Виньяли вышел, император снова обратился с разговором к доктору Антомарки и упрекал его в безверии. «Можно ли заблуждаться до такой степени? — говорил он. — Можно ли иметь сомнение в том, что доказывает вся природа, все существующее в природе? Самые величайшие умы были убеждены умом и сердцем в этой истине». Антомарки отвечал, что он никогда и не думал сомневаться в истине, столь очевидной, и что император ошибся в выражении лица его. «Вы медик, доктор, — сказал Наполеон и потом прибавил вполголоса: — Эти люди везде видят материю и никогда ничему не будут верить!» Несмотря на беспрерывное ослабление сил, император был еще так силен, что в последних числах апреля встал с постели и перешел в гостиную; спальня его, в которой воздух испортился, стала ему несносна. Лица, окружавшие его, предложили ему перенести его на руках. «Нет, — отвечал он, — понесете меня, когда я умру; а теперь только помогите мне, поддержите меня». На другой день, после ночи, проведенной в мучениях, несмотря на усилившуюся лихорадку, он велел позвать к себе доктора Антомарки и дал ему следующие инструкции с удивительным спокойствием души: «После моей смерти, которая уже очень близка, я хочу, чтобы вы вскрыли тело мое; я также хочу, требую, чтобы вы обещали мне, что никакой английский доктор не прикоснется к моему трупу. Если бы вы имели непременную нужду в помощнике, дозволяю вам употребить доктора Арно, но его одного, а не кого-нибудь другого. Желаю, чтоб вы вынули мое сердце, сохранили его в спирте и доставили в Парму к милой моей Марии-Луизе. Вы скажете ей, как нежно я любил ее, что никогда не переставал любить ее; расскажите ей все, что вы видели; все, что относится к здешнему моему положению и к моей смерти. Особенно поручаю вам обстоятельнее рассмотреть мой желудок, сделать о нем подробный рапорт и представить его моему любезному сыну... Тошнота, которая беспрерывно меня мучает, заставляет меня думать, что вся моя болезнь находится в желудке; я очень близок к той мысли, что страдаю той же болезнью, которая свела отца моего в гроб, то есть скирром в желудке... Когда меня не станет, поезжайте в Рим к моей матери и моему семейству; передайте им все, что вы узнали здесь о моем положении, о моей болезни и смерти; все, что происходило на этом печальном и несчастном утесе. Вы скажете им, что великий Наполеон умер в самом жалком положении, чувствуя недостаток во всем, что было ему необходимо, брошенный с самим собою и своею славою. Вы скажете им, что, умирая, он завещал Англии стыд и поношение последних своих минут». Скоро бред присоединился к горячке. Сильный ум Наполеона, казавшийся миру необъяснимым и сверхъестественным, покорился общему закону человечества. «Штейн-гель! Дезе! Массена! — кричал Наполеон. — А! Победа наша! Вперед! Скорей! Нападайте дружнее! Они наши!» Потом вскакивает он с постели, бросается бежать в сад и падает на спину в то самое мгновение, когда Антомарки спешит принять его в объятия. Его несут в постель; он все еще в бреду и непременно хочет идти в сад. Наконец пароксизм прекращается, лихорадка перестает мучить его, великий человек приходит в себя и является с обыкновенным своим спокойствием. «Не забудьте, — говорит он доктору Антомарки, — исполнить все, что я поручил вам сделать, когда меня уже не будет на свете. С особенным старанием произведите анатомическое исследование над моим трупом, особенно над желудком... Доктора в Монпелье предсказывали, что скирр будет наследственной болезнью в нашем семействе... Хоть бы я мог спасти сына от этой страшной болезни! Вы увидите его, доктор, скажете, что следует ему делать; вы избавите его от страданий, которые мучат меня; это последняя услуга, которой я могу ожидать от вас». Часа через три (2 мая, в полдень) лихорадка возобновилась, и знаменитый страдалец сказал своему доктору с глубоким вздохом: «Я чувствую себя очень дурно, доктор; чувствую, что скоро умру». Едва успел он окончить эти слова, как впал уже в беспамятство. «Конец его приближался, — говорит Антомарки, — мы видели, что теряем его. Каждый из нас старался показать более усердия, более стараний, хотел доказать ему преданность свою в последний раз. Верные слуги его, Маршан, Сен-Дени и я, мы предоставили исключительно себе право сидеть у его кровати и проводить ночи без сна; Наполеон не мог выносить света: мы были вынуждены поднимать его, менять на нем белье, подавать ему помощь, в которой он беспрестанно нуждался, и делали все в совершенной темноте. Страх умножал в нас усталость; обер-гоф-маршал совершенно истощился, генерал Монтолон едва мог передвигать ноги, и я был не крепче их. Мы уступили настоятельным просьбам французов, живших в Лонгвуде, и позволили им разделять с нами печальные обязанности, на нас лежавшие. Пьерон, Курто, одним словом, все находились при Наполеоне и служили ему вместе с нами. Их усердие, их бескорыстная преданность и любовь тронули императора; он поручил их попечениям своих приближенных любимцев; желал, чтоб им помогали, чтобы их поддержали и не забыли. "А бедные мои китайцы! — прибавил он. — Их тоже не надо забывать; дайте им несколько десятков наполеондоров: надобно же мне с ними проститься и оставить им что-нибудь на память"». Аббат Виньяли ждал только приказаний императора, чтобы явиться к нему с дарами религии. Великий человек пожелал видеть аббата в три часа пополудни, третьего мая. Лихорадка прекратилась на время; Наполеон отпустил всех и остался наедине с достойным аббатом. Через несколько минут обряд был совершен, и умиравший принял дары из рук аббата Виньяли. Через час лихорадка чрезвычайно усилилась; но больной находился еще в полной памяти. Он воспользовался этими минутами и повторил душеприказчикам своим, Бертрану, Монтолону и Маршану, прежнее приказание о том, чтоб после его смерти никакой английский медик не смел прикасаться к его трупу, кроме доктора Арно. Потом он сказал им: «Я скоро умру, и вы возвратитесь в Европу; я должен дать вам некоторые советы насчет будущего вашего поведения и поступков. Вы разделяли со мной изгнание, вы должны остаться верными и памяти моей; не делайте ничего, что могло бы нанести ей вред или оскорбление. Я всегда старался водворить порядок; я ввел его в мои законы и всегда руководствовался им во всех моих поступках; ни в каком случае я не изменил ему. К несчастью, обстоятельства были трудные; я вынужден был уступать, откладывать благое дело до другого времени. Скоро настала эпоха бедствий; я не мог спустить натянутого лука, и Франция лишилась всего, что я приготовлял для нее. Она судит обо мне благосклонно, нестрого, умеет ценить мои намерения, любит мое имя, мои победы. Подражайте ей, оставайтесь верны мнениям, которые вы защищали, и славе, которую вы уже приобрели; если будете поступать иначе, то покроете себя стыдом и бесчестием».  В следующую ночь сильная буря разразилась над островом Святой Елены. Почти все деревья в Лонгвуде вырваны из земли с корнями. Любимая ива императора, прикрывавшая его своими ветвями и дававшая ему тень во время его прогулок, не избегла общей участи. Весь следующий день (4 мая) агония продолжалась. На рассвете пятого числа само тело показывало, что жизнь оставляет великого человека; оно было холодно, как лед. Однако Наполеон еще дышал; но он в бреду произнес только два слова: «Голова... войско!» Торжественная минута наступает; дело англичан приближается к концу; скоро Европа узнает о смерти великого человека; герой Франции доходит до пределов чудного и славного своего поприща, а между тем сэр Гудсон-Лов ждет последнего вздоха, горя нетерпением дать в Англию известие, что жертва его погибла, и поручение, данное ему, приведено к окончанию. Трогательное зрелище происходит в последние минуты жизни героя. Госпожа Бертран, сама больная, но забывшая свои собственные страдания для Наполеона и безотлучно находившаяся при умиравшем императоре, приказывает позвать дочь и трех сыновей своих, чтоб они могли в последний раз насладиться лицезрением великого человека. Дети немедленно являются, спешат к кровати императора, берут его руки и покрывают их поцелуями и слезами. Юный Наполеон Бертран, побежденный горестью, падает без чувств. Все присутствующие проливают слезы; везде слышны стоны и рыдания... Великое событие готовится для мира... в шесть часов, без одиннадцати минут, Наполеон скончался. По совершении анатомических исследований [4], о которых император так часто говорил доктору Антомарки, тело Наполеона было выставлено на походной постели и прикрыто вместо покрова синим плащом, который служил герою во время битвы при Маренго. Все обитатели острова теснились в продолжение двух дней около этого славного катафалка. Когда смертные останки великого человека были преданы земле, все старались сохранить какую-нибудь вещь, которая ему служила или к которой он прикасался, и берегли ее, как бесценное сокровище. Похороны Наполеона происходили 8 мая. Его похоронили на расстоянии в одну милю от Лонгвуда. С первого дня могила его стала предметом всеобщего уважения; беспрерывно стали посещать ее. Гудсон-Лов, непримиримый враг героя Франции, не обезоруженный даже его смертью, огорчался этим усердием и поставил около могилы стражу, чтобы никто не мог близко подходить к праху Наполеона, сказав, что стража будет стоять тут вечно. Несмотря на такую предосторожность, последнее жилище героя всегда было очень часто посещаемо. Эти посещения никого не могли оскорблять, ибо имели источником любовь к славе и служили знаком общего внимания к великим именам, убеждая всех и каждого, что гений во всех местах и во все времена всегда внушает удивление и почтение. 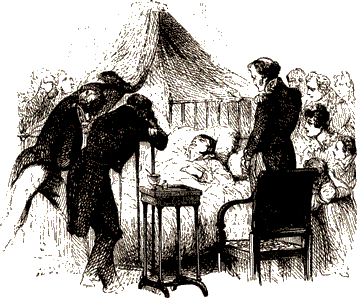 Но Наполеон мог иметь только временную могилу на острове Святой Елены. В одном из своих завещаний, от 16 апреля 1821 года, он сам назначил место постоянной своей могилы. «Я желаю, — писал он, — чтобы прах мой покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так сильно любил».  Для исполнения последней воли великого человека необходимо было стечение многих обстоятельств и удаление некоторых препятствий; нужно было, чтобы сама Франция изменилась. Бурбоны удалились с берегов Сены; предсказание Наполеона сбылось, и в ту самую эпоху, как он предсказывал. Пламенное его желание наконец исполнилось, французский народ получил завещанный ему дар, прах своего героя. Когда весть о смерти Наполеона распространилась по Европе, народ не хотел ей верить; идея о бессмертии так тесно связана с именем Наполеона, что всем казалось — в нем нет ничего смертного; все почитали жизнь его нераздельною с его славой! Эту народную недоверчивость воспел Беранже в песне, называемой Les souvenirs du peuple [5]; она-то есть истинный апофеоз, какого могут только желать великие люди в наше время. «В начале нынешнего столетия, — говорит один из красноречивых французских писателей, — Франция представляла величественное зрелище. Один человек наполнял ее, а Франция, прославленная и возвышенная им, наполняла собой целую Европу. Этот муж незнатного происхождения, сын бедного корсиканского дворянина, плод двух республик: Флорентийской по своему происхождению, и Французской, по самому себе, достиг в короткое время такой высоты царственного величия, какое едва ли представляла когда-нибудь изумленная история. И гений, и судьба, и подвиги его — все было в нем истинно царское, все показывало в нем исполнителя воли провидения. События и единодушный голос народа возвели его на трон и помазали на царство, созданное революцией; избранный народом был коронован Папою; цари и полководцы, сами отмеченные судьбою, по предчувствию, внушенному им еще темной и таинственной его будущностью, предугадали его славный жребий. Ему сказал Клебер, умирая в Египте: Вы велики, как вселенная! Ему сказал Дезе, погибая при Маренго: Я солдат, а вы генерал! Ему предрекал Вальбер, умирая при Аустерлице: Я иду в могилу, а вы идите на престол! Как огромна его военная слава, как неизмеримы его завоевания! С каждым годом он раздвигал пределы своей империи за величественные границы, положенные богом Франции. Подобно Карлу Великому, уничтожил он Альпы; подобно Людовику XIV, уравнял Пиренеи; подобно Цезарю, перешел через Рейн и едва не перенесся, подобно Вильгельму Завоевателю, через пролив Ла-Манш. Под властью этого мужа Франция считала у себя сто тридцать департаментов; с одной стороны тянулась она до устьев Эльбы, а с другой — до Тибра. Он был повелителем сорока четырех миллионов французов и покровителем ста миллионов европейцев. Вместо границ он поставил на пределах своего государства два герцогства: Савойское и Тосканское, и пять древних республик: Геную, Рим, Венецию, Вале и Нидерланды. Он воздвиг свою монархию, как цитадель, в средоточии Европы, и окружил ее вместо бастионов и передовых укреплений десятью государствами, которые породнил с империей своей и со своим семейством. Он венчал коронами всех детей своих братьев, родных и двоюродных, когда-то игравших с ним на уютном дворе родительского его дома, в Аяччо. Приемыша своего женил на принцессе баварской, а младшего брата на принцессе виртембергской. Отняв у Австрии германскую империю и составив из нее Рейнский союз, отнял у нее Тироль и, отдав его Баварии, присоединил к Франции Иллирию и сам сочетался браком с эрцгерцогиней. Все деяния этого мужа были величественны и колоссальны; подобно чудному видению, возвышался он над Европой. Еще на заре могущества вздумалось ему в уголке Италии возвеличить имя Бурбонов; герцогу Пармскому Людовику дает он титул короля Этрурского. Императорским декретом делит он Пруссию на четыре департамента, объявляет Англию в блокадном положении, а Амстердам — третьим городом империи; Рим был только вторым. Он уверяет мир, что дом браганцский перестал царствовать. Когда он переходил через Рейн, германские курфюрсты, избирающие императора, встречали его на границах своих государств в надежде, что он, может статься, переименует их в короли. Древнее королевство Густава-Вазы, не имевшее наследника престола и искавшее властителя, просит у него в государи себе одного из его маршалов. Преемник Карла V, правнук Людовика XIV, король Испании и обеих Индий просит у него в супружество одну из сестер его. Как хорошо понимали его, как на него ворчали и как обожали его солдаты, старые гренадеры, запросто обходившиеся со своим императором и со смертью! Накануне битв он вел с ними те великие беседы, которыми дополняются и поверяются великие подвиги и которые превращают историю в эпопею. В его могуществе, в его величии есть что-то простое, грубое и грозное. Дож венецианский не служил у него обер-шенком, как у восточных императоров; герцог Баварский не отправлял при нем должности обер-шталмейстера, как при германских императорах; но ему случалось иногда сажать под арест короля, командовавшего его кавалерией. В промежутке между двумя войнами он сооружал каналы и дороги, назначал содержание театрам, обогащал академии, вызывал открытие, воздвигал величественные памятники или составлял кодексы в Тюильрийском дворце и спорил с государственными своими советниками до тех пор, пока не удавалось ему в тексте закона заменить юридический навык высшей, простой мыслью гения. Наконец, последняя черта, которая дополняет дивное изображение этой громадной славы, — подвигами своими он так вошел в историю, что мог бы сказать: предшественник мой Карл Великий, а союзами до такой степени сроднился с монархией, что в устах его не казались странными слова: дядя мой Людовик XVI! Дивен был этот муж! Счастье его все преодолевало. Знаменитейшие монархи домогались его дружбы, древнейшие династии искали его союза, самые старинные дворяне добивались чести служить ему. Всякое высокое и надменное чело склонялось перед его челом, на которое рука Божья, почти видимо, возложила два венца: один золотой, именуемый властью королевской, другой весь из сияния, называемый гением». 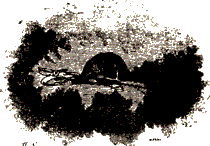
[1] Лас-Каза выслали сначала на мыс Доброй Надежды, а потом позволили ему ехать в Европу, где он терпел еще гонения и неприятности.
[2] «Это выражение, — говорит О'Мира, — употребляется только низшим классом народа в Англии».
[3] Наполеон знал, что против него явятся порицатели, но не заботился о них и говорил: «Они будут грызть гранит».
[4] Антомарки нашел желудок в таком положении, в каком ожидал найти его по указаниям самого больного.
[5] Longtems aucun ne l'а eru! (Beranger.)
|

