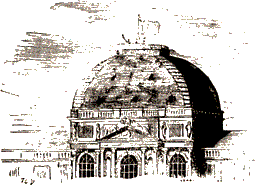
Фонтенбло 20 апреля 1814 года видел, как павший император, оставленный прежними товарищами, разлучался со своей гвардией, отправляясь в изгнание на остров Эльбу. 20 марта 1815 года Фонтенбло опять видит Наполеона среди его гвардии, окруженного священным отрядом [1], преследуемого восклицаниями народа и войска, готового ехать в столицу для принятия вновь кормила правления, вторично вверяемого ему народом. Император прибыл к воротам Парижа вечером. Трехцветное знамя развевалось на Тюильрийском дворце с двух часов: оно было выставлено храбрым Энгельманом. Народ и армия толпились около Наполеона и с жадностью бросались на него, как в Гренобле. Всяк старался посмотреть на героя поближе, разглядеть его. Когда он вступил в Тюильрийский дворец, и девять часов вечера, толпа офицеров бросилась ему навстречу с таким участием и восторгом, что он вынужден был сказать им: «Господа! Вы задушите меня!» Монталиве, служивший ему преданно и удачно во время его счастья и оставшийся ему верным в несчастье, встретил его на большой лестнице и принял в свои объятия. Императора почти несли на руках до его апартаментов, где его ожидала королева Гортензия с большим числом прежних сановников империи. Священный отряд расположился бивуаком на карусельной площади и держал караул во дворце вместе с национальной гвардией. На другой день император делал смотр всем войскам, находившимся тогда в Париже. «Воины! — сказал он. — Я возвратился во Францию с девятьюстами человек, потому что надеялся на любовь народа и на воспоминания старых солдат. Я не обманулся в ожидании. Воины! Благодарю вас. Слава всего, что теперь совершилось, принадлежит народу и вам! Моя состоит только в том, что я вас узнал и оценил.  Трон Бурбонов был незаконен, ибо восстановлен не родными руками, ибо уничтожен народной волей, выраженной всеми нашими народными собраниями; наконец, он обеспечивал выгоды только малого числа людей гордых, требования коих противны нашим правам. Воины! Только императорский трон может обеспечить права народа, и особенно самое важное из благ — нашу славу! Воины! Мы пойдем на князей, приведших к нам чужестранцев; народ не только поможет нам желаниями, но и последует нашему влечению. Народ французский и я надеемся на вас. Не хотим вмешиваться в дела других наций; но беда тому, кто вмешается в наши!» Солдаты встретили эту речь Наполеона с тем же восторгом, с каким обыкновенно слушали слова его; воздух дрожал от восклицаний: «Да здравствует император!» В эту минуту показался батальон острова Эльбы под начальством Канбронна, который не мог прибыть в Париж в одно время с Наполеоном. Увидев его, Наполеон сказал: «Вот офицер того батальона, который сопровождал меня в несчастье. Все они друзья мои. Они были драгоценны моему сердцу; когда я их видел, они представляли мне различные полки моей армии: между этими шестьюстами храбрецов есть воины всех полков. Все они напоминали мне о тех великих днях, память о которых так драгоценна; все они покрыты честными ранами, полученными в знаменитых битвах! Любя их, я любил всех вас, воины французской армии! Они несут к вам орлов! Да послужат они вам точкой соединения! Отдавая их гвардии, отдаю их всей армии. Измена и несчастные обстоятельства покрыли их покрывалом печали; но, благодаря французскому народу и вам, они являются в полном блеске своей славы. Клянитесь, что они будут везде, куда призовет их благо отечества! Изменники да не выдержат их взгляда!» Солдаты единогласно отвечали: «Клянемся!» Наполеон, казалось, возвращался к временам консульства. Несчастье и Бурбоны помирили его с демократией, которая не раз испытала его немилость во время империи. Желая яснее показать это примирение, он поручил Министерство внутренних дел известному Карно, а Бенжамен-Констану приказал присутствовать в государственном совете. Этим он признавал власть общего мнения и уступал либеральному влечению, которое выражалось в этих двух мужах, в двух различных оттенках. Император откровенно объяснил Бенжамен-Констану новую политику, которой хотел следовать. Не принимая всех конституционных идей и не покровительствуя вполне демократическим воспоминаниям, которые снова возвели его на трон, он объявил, что имеет намерение исполнить некоторые из требований народа и пойдет по пути, куда устремились современные умы. Вот некоторые из его слов, произнесенных при этом; они переданы знаменитым публицистом, которому были сказаны. «Нация, — говорил он, — отдыхала в продолжение двенадцати лет от всех политических волнений, и вот уже год, как отдыхает от войны; двойной отдых заставляет ее нуждаться в деятельности. Она хочет, или думает, что хочет, речей и собраний, но не всегда хотела их. Она бросилась к моим ногам, когда я принял бразды правления; вы должны об этом помнить, потому что вы пробовали составить оппозицию. Кажется, возвращается охота к конституциям, прениям, речам... Однако не ошибитесь, и знайте, что этого хочет меньшая часть граждан. Народ, или, пожалуй, большинство хочет только меня. Видели ли вы, как толпа спешила по моим следам, бежала с гор, звала, искала, приветствовала меня? Со времени моего возвращения я ничего не завоевал, я только управлял... Говорили, что я император солдат, но я также император земледельцев, плебеев Франции... За то, несмотря на прошедшее, народ возвращается ко мне: между нами есть симпатия. Я подам знак или только отверну голову, и аристократы будут избиты во всех провинциях... но я не хочу быть королем одной партии. Если есть средства управлять с новыми политическими учреждениями, я готов... Я хотел завоевать мир, и мне для этого нужна была беспредельная власть. Для управления одной Францией, может быть, ваши новые постановления лучше... Скажите же, что кажется вам возможным. Передайте мне ваши идеи. Свободные выборы? Публичные прения? Ответственные министры? На все это я согласен. Я сын народа: и всего хочу, чего он хочет; готов слушать его волю, исполнять даже его капризы. Я никогда не хотел угнетать его для моего удовольствия; я имел великие намерения; рок решил иначе: я уж не завоеватель, не могу быть завоевателем. Знаю, что возможно и что недостижимо; у меня теперь одно. дело: поднять Францию и дать ей правление, какого она достойна... Пятнадцатилетний труд разрушен; нельзя начать его снова. Для этого нужно двадцать лег и два миллиона людей в жертву... Притом же я хочу мира и добуду его только победами. Не хочу обольщать вас ложными надеждами: я позволю говорить, что идут переговоры, но их нет. Предвижу долгую войну, трудную борьбу. Могу выдержать ее, если нация даст мне помощь; и за то я на все соглашусь... Положение ново; я прошу советов. Я состарился; в сорок пять лет человек не тот, каким был в тридцать... Спокойствие конституционного короля будет мне прилично... и еще приличнее моему сыну». Ответы императора разным властям, которые являлись к нему с поздравлениями, носили на себе отпечаток этого нового образа мыслей. «Все нации и все для Франции, — говорил он своим министрам, — вот мой девиз». Декретом 24 (12) марта уничтожил он цензуру и дирекцию книжной торговли. Мера эта возбудила ропот многих приближенных к нему особ. «Точно, господа, — сказал он им, — это вас касается, а мне бояться нечего. Бьюсь об заклад, что не напечатают ничего хуже того, что печатали против меня в продолжение целого года». Между тем герцог и герцогиня Ангулемские пытались возмутить южные провинции в пользу короля. Герцогиня Ангулемская развернула в Бордо такую деятельность, показав неустрашимость и постоянство, что Наполеон сказал про нее: «Она одна — муж во всем королевском семействе». Но ее усилия не могли ничего против силы событий; генерал Клозель вынудил ее удалиться из Бордо и искать спасения и спокойствия на чужбине. Герцог Ангулемский попался в руки генерала Жилли, при Лаполюде, и находился пленным в Пон-Сен-Эспри, во власти императора. Друзья Бурбонов с ужасом ждали, как Наполеон решит участь герцога. Свежее воспоминание о повелении, которым Наполеон был поставлен вне закона, внушало роялистам мысль, что Наполеон захочет отомстить за себя. Император передал свою волю генералу Груши, экстраординарному комиссару в южных провинциях, письмом, которое дозволяло герцогу искать спасения в чужих краях и действовать там против Наполеона. Между тем весьма важное событие совершалось за Альпами. Мюрат, опасаясь неблагоприятных для себя последствий от венского конгресса, пытался возмутить Италию против Австрии. Он уверял, что все оказывают ему неблагодарность, забывая, что сам был в высшей степени неблагодарен к Наполеону и Франции. Это восстание заставило многих государей думать, что Наполеон, до отправления с острова Эльбы, примирился со своим зятем, и что они вместе задумали свои попытки. Вследствие этого события союзники еще более решились положить оружие только в том случае, если Наполеон будет вынужден оставить Францию, а на французский престол воссядут опять Бурбоны. Такое неблагоприятное стечение обстоятельств заставило Наполеона сказать в своих Записках: «Два раза подвергаясь странному кружению головы, король неаполитанский два раза был причиной моих несчастий: в 1814 году, объявив себя против Франции, и в 1815 году, объявив себя против Австрии». Наполеон всеми силами старался отделить Австрию от союзных монархов; но усилия его не имели желанных последствий. Он с таким же рвением искал мира, но сам знал, что мир невозможен, пока он на французском престоле. Следовало спешить с приготовлениями к войне. Хотя Франция удивлялась Наполеону и еще любила его, однако все французы без исключения желали отдохнуть от войны и успокоиться в мире. Народ французский решался на новые пожертвования для поддержания своей чести, славы и независимости; но с беспокойством смотрел на военные приготовления и тешил себя надеждой, что скоро австрийский император протянет Наполеону руку мира, особенно когда Наполеон объявил, что Мария-Луиза и римский король будут присутствовать на сейме народном. Неприязненные дипломатические сношения со всеми европейскими дворами, и особенно с венским, разрушили надежду множества патриотов, которые не без тяжкого предчувствия видели, что Франции снова придется идти против всей Европы. Все были бы счастливы и довольны, если бы могли пользоваться плодами мира и свободы под скипетром героя, который подарил Франции так много славы. Но мир был невозможен; надежды на свободу тоже разрушились. 22 (10) апреля Наполеон обнародовал добавочный акт к постановлениям империи. Не дожидаясь решений нового конституционного собрания, созванного декретом 12 (1) марта, он сам, один, принял на себя труд пересмотреть конституционные учреждения, и чтобы избавиться от беспокойных прений, заставил бесчисленных избирателей, собравшихся на сейм, считать только голоса в пользу нового закона. Народу предложили одобрить, как во времена консульства и империи, следующий акт, разосланный по всем городским управлениям Франции: «Ст. 1-я. Учреждения империи, а именно: дополнительный акт 23 фримера 8 года, сенатские приговоры 14 и 16 термидора 10 года и 28 февраля 12 года, изменяются нижеследующими распоряжениями; все прочие их статьи остаются в полной силе. Ст. 2-я. Законодательная власть принадлежит императору и двум палатам. Ст. 3-я. Первая палата, называемая палатой пэров, есть наследственная. Ст. 4-я. Император назначает ее членов, кои не могут быть переменяемы; достоинство сие переходит к старшему сыну, по прямой линии. Число пэров не ограничено, и проч., и проч.» Бесполезно выписывать прочие статьи этого акта. В награду за любовь, с которой народ помог Наполеону снова овладеть престолом, он дает ему наследственных законодателей. Императорские статуты 1806 года предоставляли рождению одни титулы и звания; добавочный акт распространил права рождения далее. Карно всеми силами старался отклонить Наполеона от издания этого акта и от учреждения наследственной палаты пэров; но советы его не были приняты. Наполеон желал установить свою династию на прочном основании. Наполеон надеялся, что французы, по известному своему отвращению к прежнему порядку вещей, примут единодушно его акт, в который он вставил особенную статью, уничтожавшую феодальные права, древнее дворянство и отдалявшую Бурбонов от трона. Действительно, голоса оказались в пользу этого неудачного дополнения к учреждениям империи, но общее мнение подверглось неприятному впечатлению, и народный восторг, бывший всеобщим и пламенным в марте месяце, заметно охладился в то время, когда готовились к сейму. Между тем в империи составились патриотические общества для поддержания народного духа и защиты родной земли. В Париж прибыли федераты города и предместий. Федераты предместий Сен-Марсо и Сен-Антуан явились к императору, предложили ему свою жизнь, просили оружия и говорили ему в таких выражениях, каких он не снес бы в прежнее время; но со времени возвращения с острова Эльбы он ко всему приготовился. Он должен, по необходимости, уступать всем требованиям своего положения, и потому отвечает федератам, предлагающим свои услуги: «Воины-федераты! Я возвратился один, потому что надеялся на городских жителей, на поселян и на солдат армии, преданность коих к народной чести я знал. Все вы оправдали мое доверие. Принимаю предложение ваше. Дам вам оружие, дам и опытных офицеров, покрытых честными ранами, для руководства вами: они привыкли видеть бегущего от них неприятеля. Воины-федераты! Если в высших классах общества нашлись люди, обесчестившие имя француза любовь к отечеству и чувство народной чести в целости сохранились в жителях городов, земледельцах и солдатах армии. Радуюсь, что видел вас. Доверяю вам. Да здравствует народ французский!» Избиратели, собравшиеся в Париже, разобрав голоса о дополнительном акте, составили центральную депутацию, которая представила императору на сейме результат баллотировки. Миллион триста тысяч граждан одобрили акт, только четыре тысячи положили черные шары. Наполеон отвечал президенту депутации речью, которая одна только замечательна в этот день, сначала объявленный эпохою возрождения, а потом низведенный до самого простого дела, до ничтожного счета голосов.  «Господа! — сказал Наполеон. — Будучи императором, консулом, солдатом, я всем обязан народу. В счастье, в бедствии, на полях битвы, в совете, на престоле, в изгнании Франция была единственным и постоянным предметом моих мыслей и действий. Возвратившись в департаменты, скажите своим согражданам, что обстоятельства значительны! С помощью согласия, энергии и постоянства мы выйдем победителями из борьбы великого народа с чужеземцами; будущие поколения строго разберут наше поведение; нация всего лишится, если потеряет независимость. Скажите, что чуждые короли, которых я возвел на трон или которым оставил корону, которые во времена моего счастья искали моего союза и покровительства французского народа, теперь направляют удары на меня: если бы я не знал, что они действуют против моего отечества, я отдал бы им жизнь, на которую они посягают. Скажите также согражданам, что враги наши будут бессильны, пока французы сохранят ко мне чувства любви, которые они мне столько раз доказали. Французы! Воля моя — воля народа; права мои — его права; моя честь, слава, мое счастье — не что иное, как честь, слава и счастье Франции». Наполеон был силен, когда становился таким образом на народную точку зрения. Слова его имели тогда силу истины, глубоко прочувствованной. С любовью все видели, как он соединял честь и славу свою с честью и славой Франции; он выражал мысль всех французов; уста его произносили правду, в которой не сомневался ни один француз. Он занимался уже не одной своей народностью; открывалось перед ним конституционное поприще, но не для него был создан Наполеон. Однако ж он старался дать слову своему, привыкшему выражать приговоры безграничной воли, характер приличный и соответствующий парламентским требованиям. 4 июня он лично открыл палаты речью, в которой просил у них пособия «для доставления торжества святому делу народа». Наполеон не мог ничего опасаться от палаты пэров, он сам ее составил; но палата депутатов, выбранная среди волнения, произведенного либеральными прокламациями, заставляла бояться, что составится оппозиция, которая будет не только противоречить правительственному направлению Наполеона, но даже разрушит согласие между первыми властями империи, столь необходимое для защиты государства. Лафайет и Ланжюине появились снова в этом собрании, и полученное ими влияние с первого заседания достаточно показывало направление и дух палаты. Ланжюине выбран в президенты, ему поручено выразить перед императором чувства народных представителей. Он отправился в Тюильри с депутацией и поднес императору адрес, содержавший желания палаты. Наполеон отвечал ему следующими словами: «Все мы соединены политическими учреждениями, они должны быть нашей полярной звездой в эти бурные минуты. Всякое публичное прение, клонящееся к прямому или непрямому уменьшению доверия к нам, будет государственным бедствием. Мы в опасном положении. Не будем следовать примеру восточной империи, которая при вторжении варваров стала предметом насмешек потомства, ибо занималась отвлеченными рассуждениями в минуту разрушения городских ворот». Император оставил столицу 12 июня (31 мая) и отправился к бельгийской границе. Прибыв в Авен 14 (2) июня, он издал следующую прокламацию: «Солдаты, сегодня день битв при Маренго и Фридланде, два раза решали они судьбу Европы. Тогда, как и после Аустерлица, как после Ваграма, мы были слишком великодушны, мы поверили словам принцев, которых оставили на троне. Теперь, соединясь вместе, они посягают на независимость и священные права Франции. Они начали несправедливейшее нападение, пойдем навстречу им, и мы, и они — теперь другие люди. Воины! Мы должны совершить форсированные марши, вступать в битвы, подвергаться опасностям, но, с помощью терпения, победа будет наша! Для всякого француза с душой настала минута — победить или умереть!» Пока Наполеон возбуждал таким образом мужество в солдатах, измена снова проникала в ряды его воинов: генерал Бурмон и несколько старших офицеров оставили французскую армию. Когда известие об этом пришло в главную квартиру, Наполеон подошел к маршалу Нею и сказал ему: «Вот, маршал, что скажете о человеке, которому вы покровительствовали?» — «Ваше величество, — отвечал храбрый из храбрых, — я надеялся на Бурмона, как на самого себя». — «Верьте, — прервал Наполеон, — что синие останутся всегда синими, а белые — белыми». Кампания открылась 15 (3) июня, сражением при Флерюсе. Пруссаки много потеряли в этой битве, но и авангард французской армии понес значительную утрату: генерал Летор, адъютант Наполеона, ранен смертельно в ту самую минуту, когда повел кавалерию в атаку. Армии союзников, вышедшие против Наполеона, находились под начальством Веллингтона и Блюхера. Они состояли из двухсот тридцати тысяч человек, во французской армии было не более ста двадцати тысяч. Желая избежать опасности, которая могла последовать от превосходства союзных войск в числе, Наполеон пытался, в самом начале кампании, отделить англичан от пруссаков и деятельно маневрировал, стремясь к этой цели. План его имел счастливые последствия в битве при Линьи 16 (4) июня; Блюхер, атакованный отдельно, понес значительные потери, но урон этот не мог его ослабить, потому что у него было многочисленное войско, а за ним находились еще многочисленнейшие резервы. В таком положении, в каком находился Наполеон, ему надобно было совершенно уничтожить армию Блюхера, чтобы на другой день напасть на Веллингтона и таким же образом уничтожить его. Такое постепенное уничтожение пруссаков и англичан было подготовлено его распоряжениями и инструкциями, которые он разослал всем главным начальникам своих войск; но предел его успехам был положен судьбой, и худое исполнение его приказаний расстроило все расчеты его гения. Сам он предчувствовал, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство повредит его соображениям, и что рок готовит ему новые удары. Он говорил впоследствии: «Верно, что в этих обстоятельствах я не чувствовал в себе решимости, во мне не было прежней уверенности». Предчувствия его скоро сбылись, через два дня он увидал новую и последнюю катастрофу на полях Ватерлоо.  Это было 18 июня. Сначала, казалось, счастье хотело покровительствовать Наполеону. Вот как он сам описал это знаменитое дело. «После пальбы и пехотных и кавалерийских атак, продолжавшихся восемь часов, вся армия с радостью видела, что сражение выиграно, и поле битвы останется за нами. В половине девятого часа четыре батальона средней гвардии, посланные на равнину за Мон-Сен-Жан для подкрепления кирасиров, много претерпевая от картечи, бросились в штыки, чтобы овладеть батареями. Несколько английских эскадронов напали на них во фланг и обратили их в бегство; стоявшие вблизи полки, увидев бегущих в гвардейских мундирах, вообразили, что это солдаты старой гвардии, и растерялись, раздались крики: «Все потеряно! гвардия разбита!» Солдаты рассказывают даже, что на некоторых пунктах недоброжелательные люди кричали: «Спасайтесь, как можете!» Как бы то ни было, панический страх распространился на поле битвы; все бросились в величайшем беспорядке на коммуникационную линию: солдаты, артиллеристы с зарядными ящиками спешили туда; старая гвардия, находившаяся в резерве, была опрокинута ими и увлеклась общим потоком. Через минуту армия превратилась в нестройную массу все отряды смешались, и невозможно было собрать ни одного корпуса. Союзники, заметив это изумительное смятение выслали целые колонны кавалерии; беспорядок увеличился еще более; в темноте ночи никак нельзя было остановить войско и объяснить ему его ошибку. Таким образом, выигранная битва, исправление предшествовавших ошибок, успехи, обеспеченные на другой день — все было потеряно в один момент панического страха. Даже запасные эскадроны, находившиеся возле императора, были опрокинуты и расстроены этими бурными волнами, и им оставалось только следовать общему потоку. Резервные парки и багаж, кои не успели переправить через Самбру, и все, что осталось на поле битвы, попало в руки союзников». Ошибка маршала Груши еще более содействовала этому бедственному результату. Ему поручено было преследовать и задерживать прусские корпуса Блюхера, а он позволил им дойти до Ватерлоо, и сам за ними не последовал, хотя этого настоятельно требовал генерал Жерар. Груши все еще думал, что перед ним стоит прусская армия, когда перед ним оставался только небольшой отряд. Это ошибка, против которой он сам сильно протестовал и которую, однако ж, постоянно приписывает ему общее мнение, основываясь на свидетельстве самого Наполеона и стольких генералов, очевидных свидетелей; эта ошибка изменила в течение одного часа не только участь этого знаменитого сражения, но даже и судьбу Европы. Император, вполне зная, какой дух управлял палатой депутатов, предчувствовал, что известие о поражении его армии поднимет против него ораторскую бурю. Поэтому он должен был как можно скорее возвратиться в столицу для удержания в страхе своих внутренних противников и для удаления парламентских переворотов. Он прибыл в Париж 20 (8) июня, в девять часов вечера, в сопровождении герцога Бассано и генералов Бертрана, Друо, Лабедоера и Гурго. Немедленно призвал он к себе братьев своих Иосифа и Люсьена, архиканцлера Камбасереса и всех министров. Положение было затруднительное: каждый предлагал свое мнение, как бы успокоить народную бурю. Потом созван был государственный совет. Император изложил ему свои несчастья, нужды и надежды. Понимая, что нужно приласкать палату депутатов и не показывать, до какой степени царствует несогласие между ним и палатой, он нарочно приписывал враждебное к нему отношение, имевшееся в палате, малому числу депутатов, а не большинству. Если бы Наполеон и заблуждался в этом случае, то скоро действиями палаты был бы выведен из своего заблуждения. Палата повиновалась более, чем он думал, внушениям Ланжюине и Лафайета. По предложению последнего она объявила себя постоянной и решила, что тот будет изменником отечеству, кто попытается распустить ее. Этот разрыв, возлагавший большую ответственность на народных представителей, нанес последний удар политическому существованию Наполеона. Бурбоны порадовались такому решению палаты. Они предвидели, что такой явный разрыв между императором и представителями народа необходимо повлечет за собой или вторую обдикацию, или новый 18 брюмер, и что Франция без Наполеона, равно как и Наполеон без Франции, не могут противостоять союзным войскам. Когда решение палаты депутатов дошло до Элизе-Бурбона, отчаяние распространилось в стане императора. Самые усердные его приверженцы не скрывали горести своей и советовали ему покориться неумолимому року, требовавшему от него новой жертвы. Реньо де Сен-Жан-Данжли более всех других настаивал, чтобы Наполеон пожертвовал собой для отечества. Тогда Наполеон, узнав, что и палата пэров последовала примеру палаты депутатов, почувствовал, что совершенно побежден друзьями и врагами, и решился отречься от престола в пользу своего сына. Только один человек во всем совете противился этому намерению, ибо находил, что Франция попадет опять под власть чужестранцев. То был тот самый человек, который в прежнее время один противился учреждению императорского правления. Карно думал, что не следует, из недоверчивости к императору, подвергать народную независимость опасности, и утверждал, что это важнейшее благо нации погибнет, если удалят единственного начальника, за которого армия и народ хотят сражаться. Когда противное мнение одержало верх, Карно сел к столу, закрыл лицо руками и заплакал. Наполеон тогда сказал ему: «Я узнал вас слишком поздно!» Потом император написал следующую прокламацию: «Французы! Предпринимая войну за независимость народную, я надеялся на соединение всех усилий, всех желаний и на содействие всех народных властей. Я имел основания думать об успехе и смело пренебрегал прокламациями держав против меня. По-видимому, обстоятельства изменяются. Я предлагаю себя в жертву ненависти врагов Франции. Дай Бог, чтобы они были искренни в своих заявлениях и желали зла только мне одному! Политическая жизнь моя кончена, и я объявляю сына моего, под именем Наполеона II, императором французов. Нынешние министры временно составят совет управления. Заботливость моя о сыне заставляет меня пригласить палаты к скорейшему образованию регентства по закону. Соединитесь все для блага общего и для сохранения народу независимости».  Эта декларация была немедленно представлена в обе палаты. Представители, желавшие се, приняли ее с восторгом, но они не приняли решительного мнения о Наполеоне II, законные права которого были поддержаны многими ораторами и, между прочими, Беранжером (депутатом дромского департамента). Прения, начавшиеся по этому предмету, вывели на ораторскую кафедру человека, про которого тотчас все сказали, что он принимает наследство Мирабо: то был Мануэль. Палата депутатов сочла долгом отправить к Наполеону депутацию с поздравлениями по случаю его вторичного отречения. «Благодарю вас, сказал он депутатам, за чувства, которые вы мне выражаете, желаю, чтобы отречение мое принесло счастье Франции, но нс надеюсь на это; оно оставляет государство без главы, без политического существования. Время, потерянное на ниспровержение монархии, могло быть употреблено на приготовления, которые уничтожили бы врагов Франции. Советую палатам поскорее усилить армию: кто хочет мира, должен приготовляться к войне. Не вручайте судьбу великого народа прихотям чужестранцев. Страшитесь, что ошибетесь в надеждах. Тут-то главная опасность. В каком бы я положении ни находился, всегда буду доволен, если Франция будет счастлива». Однако враги императорской династии восторжествовали в палате депутатов; они не согласились объявить императором Наполеона II и составили комиссию из пяти членов для временного правительства. Членами этой комиссии назначены: Фуше, Карно, Гренье, Кинет и Коленкур. Получив известие об этой новости, Наполеон предался негодованию. «Я отказался от престола не для новой директории, а для сына моего, — вскричал он. — Если его не провозгласят императором, отречение мое само собой уничтожается. Палаты уверены, что народ, армия, общее мнение хотят моего сына, но их удерживают иностранцы. Если они предстанут перед союзниками с поникшей головой, преклонив колена, то союзники не захотят признать их народной независимости. Если бы палаты понимали свое положение, то единодушно провозгласили бы Наполеона II. Тогда иностранцы увидали бы, что у вас есть воля, цель, точка опоры; они увидали бы, что день 20 марта не был делом партии, внезапным ударом бунтовщиков, а результатом привязанности французов к моей особе и к моей династии. Народное единодушие подействовало бы на них более, чем все наши постыдные и унизительные уступки». Однако в Париже находилось много патриотов, подобных Карно, которые думали, что прежде всего следует позаботиться о защите государства, и что успешная защита невозможна без руки, без гения, без имени Наполеона. Военные люди громко высказывали такое же мнение. Со всех сторон говорили: «Не будет императора — не будет и воинов!» Толпа, беспрерывно возраставшая перед дворцом Элизе-Бурбон, где жил Наполеон, навела беспокойство на Фуше, который управлял временным правительством и желал возвращения союзных войск в Париж. Он боялся, что отречение будет казаться союзникам притворством до тех пор, пока Наполеон останется в Париже. Поручили Карно сообщить ему о беспокойстве временного правительства и просить его удалиться из столицы. С этой целью Карно поехал в Элизе-Бурбон и застал Наполеона одного, в ванне. Когда министр объяснил цель своего посещения, падший властелин удивился, что его присутствие может возбуждать опасения. «Я только простой гражданин, — сказал он, - даже менее, чем простой гражданин». Однако же он обещал исполнить желание палат и временного правительства и 25 (13) июня уехал в Мальмезон, откуда хотел послать армии следующую прокламацию: «Воины! Уступая необходимости, заставляющей меня удалиться от храброй армии французской, я уношу с собой счастливое убеждение, что она оправдает отличными заслугами, ожидаемыми от нее отечеством, те похвалы, в которых не могли отказать ей даже враги». Воины, хотя я в отсутствии, однако же буду следить за вами. Я знаю все отряды, и если один из них одержит над врагом победу, я отдам справедливость его храбрости. И я, и вы, мы были оклеветаны. Люди, недостойные ценить ваши труды, видели в вашей преданности ко мне доказательство, что будто бы вы служите мне одному; будущими успехами докажите им, что вы служили, повинуясь мне, только отечеству, и что любите меня за пламенную любовь мою к Франции, нашей общей матери. Воины! Еще несколько усилий, и союзники будут уничтожены. Наполеон узнает вас по вашим победам. Спасите честь, независимость французов; будьте до конца такими, какими я вас знал в продолжение двадцати лет, и вы будете непобедимы». В Мальмезоне Наполеон был еще слишком близко к Парижу, и это беспокоило его врагов. Фуше все еще страшился какого-нибудь действия с его стороны; за ним тщательно наблюдал генерал Беккер под предлогом, что охраняет его жизнь. 27 (15) июня, узнав о приближении союзников, Наполеон писал к временному правительству и предлагал свою помощь, желая служить простым солдатом: «Отказавшись от власти, писал он, — я не отказался от благороднейшего права гражданина — права защищать отечество. Приближение врагов к столице не позволяет сомневаться насчет их намерений. В этих опасных обстоятельствах я предлагаю услуги свои, как генерал, считая себя первым солдатом отечества». Люди, требовавшие отречения императора, не могли доверить армию великому полководцу, которого свергли с трона. Они знали, что такой солдат не может быть иначе как генералиссимусом, и что взять его в помощники значит взять его во властелины. Они отказали, и отказ их возбудил в Наполеоне сильное негодование. Он хотел снова принять команду над войском и возобновить 18-й брюмер. Но герцог Бассано отвлек его от этого намерения, объяснив, что ныне не те обстоятельства, которые помогали ему в VIII году. Уступая необходимости, Наполеон оставил Мальмезон и поехал в Рошфор, намереваясь отплыть в Америку.  [1] Этот батальон составился по дороге из отставных офицеров, спешивших навстречу Наполеону.
|

