
Сочинения, пущенные в ход для того, чтобы выведать мнение народа, приняты публикой не так, как бы можно ожидать, судя по общему расположению, которым пользовался первый консул, и поэтому принята благоразумная мера скрыть официальность этих сочинений и отсрочить исполнение намерения, на которое они намекали. Но адская машина подала повод к учреждению специальных судов и изъятых из действующего общего закона расправ, сделавшихся орудиями к быстрому развитию верховной власти, которую первый консул уже на самом деле сосредоточил в своих руках. Это опасное учреждение породило смелую оппозицию некоторых должностных лиц, как, например, Бенжамен-Констана, Дону, Женгене (Ginguene), Шенье, Иснара (Isnard) и других. В сенате нашлись также три-четыре великодушных человека: Ламбрехт, Ланжюпне, Гара и Ленуар-Ларош, которые восстали против этой меры. Но в пользу желаний первого консула было такое большинство голосов, что желания эти легко были облечены в законную форму. Вместе с приведением в исполнение своих честолюбивых замыслов Наполеон не забывал, однако, заботиться об истинно полезных для общества делах. По всей Франции проводились новые дороги и новые каналы; художества возрождались с новым блеском; ученые открытия поощрялись; торговля и промышленность открывали себе пути, до сих пор неизвестные. Семнадцатого января 1801 повелено возобновление действий Африканской Компании, и первый консул, переносясь мыслью от атласа к Альпам и объемля своим прозорливым взором всю пользу просвещения, в тот же день дал приказание генералу Тюрро председательствовать в комиссии, назначенной для построения прекрасной симплонской дороги. Девятого февраля был в Люневиле подписан мирный договор с державами континента. Бонапарт воспользовался этим случаем, чтоб обвинить лондонский кабинет и представить его, как единственное препятствие к всеобщему умиротворению. В письме своем к Законодательному собранию он сказал: «Остается жалеть, что этот мирный договор не объемлет всех частей света. По крайней мере, таково было желание Франции, и такова была постоянная цель усилий ее правительства; но все эти усилия оказались тщетными. Европа знает, как действовало английское министерство, чтобы расстроить и само заключение люневильского трактата». Вслед за тем, в ответе своем на поздравления Законодательного собрания, Наполеон дал почувствовать, что в уме его уже рождается гигантский замысел введения континентальной системы; он говорил: «Все державы континента согласятся между собой, чтобы принудить Англию идти по пути умеренности, справедливости и здравого рассудка». Бонапарт, радуясь восстановлению во Франции внутреннего спокойствия, которое предшествовало заключению внешнего мира, поспешил выразить свое удовольствие по случаю согласия, замеченного им между жителями разных департаментов, которые он объехал; говоря об этом, он промолвил: «Итак, нечего слушать необдуманных речей некоторых ораторов». Эти слова были намеком на смелые речи, произнесенные во время прений об учреждении специальних присутственных мест. За люневильским трактатом, заключенным преимущественно с Австрией, последовали мирные договоры с Неаполем, Мадридом и Пармою. Около того же времени Бонапарт учредил департаменты Роерский, Саррский, Рейн-и-Мозельский и Мон-Тонерский; а так как умиротворение и распространение границ Французской республики должны были иметь влияние на ее вещественные выгоды, то первый консул велел издать закон, которым ему присвоена власть учреждать торговые биржи, и отдал приказание, чтобы каждый год, от 17 до 22 сентября, была публичная выставка всех изделий отечественной промышленности. Освободясь от военных забот на континенте Европы и довольный разъединением, по крайней мере, по наружности, Англии с другими державами, Бонапарт основывал большие надежды на благорасположении к нему российского императора Павла I. Но кончина этого государя разрушила все его планы. Узнав о ней, он изъявил непритворное и живое прискорбие. Вот уже второй раз нечаянное событие расстраивало огромный замысел Бонапарта, уничтожить могущество Великобритании в Индии. Однако же первый консул не довольствовался тем, что успел уже сделать. Посреди своих славных трудов и великих начинаний он чувствовал, что его план реорганизации неполон: в нем еще не было определено место для религии. Конечно, он и прежде не то чтобы не обращал на нее внимания, но о ней не было говорено ни в заключенных трактатах, ни в изданных законах. Если духовенство и пользовалось, наравне с лицами других состояний, милостями консула, то этого все еще было мало для упрочения того положения, в котором находился первый консул; и чтобы укрепить его на основании законном, Наполеон вошел в переговоры с Римом и заключил конкордат с папой Пием VII. Философы из свиты Бонапарта, которые не отказались содействовать революции брюмера, потому что она упрочивала их внезапное возвышение, вдруг заговорили против обновления религии. Им хотелось, чтобы Бонапарт провозгласил себя главой галликанского вероисповедования и совершенно бы прервал все сношения с Папой. Но первый консул знал лучше, чем эти люди, важность религии и опасность, так сказать, задеть за живое большинство нации. Еще во времена революции и тиранского владычества философизма и Директории некоторые почувствовали ту необъятную пустоту, которую оставляет после себя ниспровержение религии, и тщетно старались пополнить ее, кто учреждением праздников в честь Бога Всевышнего, кто обрядами феофилантропов. Бонапарт, уверенный в том, что несравненно большая часть французов привержена к римскому вероисповеданию, естественно, должен был отнестись к Папе с переговорами о возобновлении богослужения и показать вид, что намеревается возвратить церкви ее прежнее величество, а прелатам прежний блеск их звания. Поэтому-то, не обращая внимания на сарказм приближенных к себе людей, которые все были вотерьянцы, он, по случаю заключения с Англией амьенского мира, приказал отслужить Те Deum в соборной церкви Парижской Богоматери. При совершении этого молебна присутствовали все знаменитости тогдашней эпохи. Когда Ланн и Ожеро, назначенные сопровождать первого консула, узнали, что должны идти к обедне, то хотели отказаться; но Бонапарт не позволил, и на другой день все шутил над Ожеро, спрашивая, понравилась ли ему вчерашняя церемония. «Конкордат 1801 года, — сказал Наполеон в своих мемуарах, — был нужен для религии, для правительства... Он прекратил беспорядки, устранил взаимную недоверчивость...» На одном из совещаний, предшествовавших подписанию конкордата, Наполеон сказал: «Если бы в Риме не было пап, так на этот случай следовало бы их выдумать». Помирившись с Папой, Бонапарт дал новое ручательство в продолжительности восстановленного спокойствия учреждением королевств в Италии, которую прежде хотел было наводнить республиками. Тоскана возведена на степень маленького независимого государства в пользу одного из пармских инфантов, у которого отобрали прежние его владения для присоединения их к Ломбардии. Принц этот, принявший пышный титул короля Этрурии, посетил столицу Франции под именем графа Ливорнского. В честь его были даны блестящие праздники, по случаю которых снова проявились изысканность и изящность старой аристократии. Но великолепие приема не могло скрыть всей ничтожности гостя; и когда Бонапарта спрашивали, каким это образом такой незавидный человек облечен таким верховным саном, он только отвечал: «Политика, политика...» Между тем другой знаменитый гость прибыл в Париж с берегов Темзы. Ему не сделали такого великолепного приема, как прежнему, но зато Бонапарт выказал ему искреннее радушие. Этот гость уже был не ничтожество; человек с высшим умом и благородным характером, про которого Наполеон сказал, что «сердце живит его гений, тогда как в Питте гений одушевляет сердце». Гость этот был Фокс! Бонапарт расточал перед знаменитым англичанином самые живые доказательства дружелюбия и уважения. «Я часто принимал его, — говорит он в своем Мемориале, — еще прежде я уже много наслышался о его талантах, а теперь узнал его прекрасную душу, доброе сердце, виды обширные и благородные. Я полюбил его. Мы часто беседовали с ним о множестве предметов и без всяких предрассудков... Фокс — пример людей государственных, и рано ли, поздно ли, а его система обоймет целый свет...» Чувства симпатии первого консула к Фоксу были разделяемы вообще всеми французами. «Его принимали как какого-нибудь триумфатора во всех городах, через которые он проезжал. Давали в его честь праздники; и везде, где только узнавали, что Фоке будет проезжать, его встречали и провожали с величайшими почестями». (О'Мире). 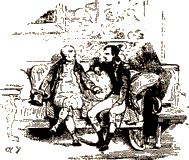 Положение Франции после Амьенского мира было таково, каким она уже давно не пользовалась. Науки и художества развивались до удивительной степени; музеи обогатились похищениями драгоценной, древней собственности народов; торговля и промышленность, для которых были открыты новые пути проведением множества дорог и каналов, вводили неслыханную дотоле роскошь; открыто множество школ и лицеев; военная слава дошла до высокой степени; бразды правления были в руках Бонапарта... Казалось, чего бы недоставало Франции!.. Ей недоставало законного короля; на ней кровавым пятном лежало тяжкое преступление, — и все ее мнимое величие допускалось Провидением только для того, чтобы народы видели, как оно карает преступников. Положение Франции, говорим, казалось блистательным; но ее конституция носила в себе самой невозможность быть постоянной. Все были убеждены в том, что ее победы и мирные договоры, ее могущество и блеск — плоды гения одного человека; и все также были уверены, что один только этот гений в состоянии поддерживать ее на теперешней степени славы; и тогда, естественно, рождался вопрос, каким же образом этот человек, первый по всему, может, по силе конституции, занять когда-нибудь второстепенное место? Сенату казалось, что он уже и так много сделал для Бонапарта, когда, по голосу нации, требовавшей блистательного вознаграждения первому консулу, назначил его консулом на десять лет. Но десять лет должны же были кончиться, и вопрос не разрешался этим временным первенством такого человека, как Бонапарт, который не мог уже сделаться просто частным человеком. Наполеон и Франция поняли это; и потому, когда сенат утвердил за ним консульство на десять лет, он отверг его и обратился к народу с вопросом: «Быть ли Бонапарту консулом на всю его жизнь?», и три миллиона голосов отвечали: «Быть!»  Сенат, желая сколько возможно прикрыть свое прежнее неблаговременное распоряжение, поспешил объявить народную волю, и при том, собственно от себя, даровал первому консулу новое право — право избрать себе преемника. Вот что отвечал Бонапарт депутации от сената: «Сенаторы! Жизнь гражданина принадлежит народу. Народ желает, чтобы я всю жизнь свою посвятил ему... Покорствую его воле... Давая мне новое ручательство, ручательство постоянное, народ возлагает на меня обязанность улучшить систему его законодательства новыми предусмотрительными постановлениями. Мои усилия, ваше содействие и содействие властей и доверенность ко мне народа утвердят, надеюсь, благосостояние Франции... И тогда, довольный тем, что сделал, я без сожаления сойду в могилу и оставлю свою память на суд потомству». Однако же общенародное назначение Наполеона пожизненным консулом встретило некоторые голоса не в его пользу, но это было каплей в океане. Пожизненное консульство, казалось, сопрягало судьбы Франции с судьбой одного человека и некоторым образом составляло род самодержавия, немногим уже отделенного от наследственной монархии; и нельзя же было ожидать, чтобы люди всех партий, порожденных 1789 годом, были согласны с большинством голосов нации, облекших Бонапарта столь огромной властью: Конвент и Учредительное собрание нашли своих представителей; первый, в лице Лафайета, дал одно условное согласие на пожизненность достоинства первого консула; а второе; в лице Карно, вовсе отверг такое назначение. Бонапарт предвидел оппозицию со стороны Лафайета, который, не соглашаясь на все личные убеждения консула, постоянно отказывался занять почетное место сенатора; и если бы Наполеон лучше знал Лафайета, то не стал бы тщетно стараться привлечь его на свою сторону: Лафайет не только не изменился с эпохи 1789 года, но еще хотел, чтобы Франция, Европа и Америка знали, что он остается все одним и тем же человеком. Полный воспоминаний о том, кем он был при Вашингтоне и Мирабо, он составил себе первостепенное политическое значение, тщательно намеревался сохранить его и не был расположен занять второстепенное место при ком бы то ни было. Ему также хотелось быть представителем какой-нибудь эпохи, живым знамением 89 года; и когда человек этот смотрел на себя как на лицо вполне историческое, как на первое действующее лицо многих великих сцен, то, естественно, не хотел сойти с высоты, на которую поставили его победители 14 июля, и стать в ряды безвестной толпы, окружающей победителя 18 брюмера. И, таким образом, Лафайет, участник в первоначальной федерации, охраняя свое самодостоинство, не мог сблизиться с диктатором 1802 года и должен был отказаться от тоги сенатора; поэтому-то он смиренно скрылся в своем уединении, в Лагранже, и не принимал необдуманного участия в блестящих тюльерийских собраниях. В это время Бонапарт, перед самым назначением его консулом на жизнь, учредил орден Почетного легиона. «Этот знак отличия, — было сказано от имени консула в Законодательном Собрании, — будет наградой всех достойных, без различия званий». Но учреждение «знака отличия», несмотря на оговорку без различия званий, живо напоминало о системе прав и преимуществ, и не могло не возбудить противоречия некоторых; должно сказать, что в этом случае многие умеренные люди не одобряли нового учреждения. Бонапарт изумился, но отверг все предложения тех, которые, желая держаться середины, советовали ему учредить этот орден единственно для военных. «Нет, сказал он: — нас тридцать миллионов человек, связанных наукой, собственностью, торговлей. Триста или четыреста военных ничего не значат в сравнении с этой массой. Притом, когда нет войны, военачальник становится снова гражданином. Если смотреть на военного с односторонней точки зрения, так ему нет других законов, кроме прав сильнейшего; военный видит одного себя, все относит к самому себе... И потому я нисколько не остановлюсь в этом случае отдать предпочтение службе гражданской... я управляю государством не в качестве главнокомандующего армиями, но потому, что нация думает найти во мне способности к управлению гражданской частью. Если б она думала иначе, то правительство не могло бы поддержать себя. Я очень хорошо знал, что последний барабанщик поймет меня, когда, в бытность мою генералом, подписывался: член Академии... Если орден Почетного легиона не будет наградой заслуг на поприще гражданской службы, так он и не будет Почетным...» Нельзя отвергнуть, что мысль награждать одинаковым отличием все виды заслуг и достоинств была великой мыслью и всем, без различия, открывала дорогу к известности. И, в таком случае, позволительно думать, что если нашлись люди умеренные, люди здравомыслящие, которые порицали учреждение ордена, то они делали это потому, что не совсем верили словам Бонапарта и видели в Почетном легионе только новое средство, которое консул не замедлит употребить сообразно со своими намерениями, которые они могли предугадывать. Поэтому можно сказать, что порицали, собственно, не учреждение знака отличия и не то чтобы не поняли первого консула, а что уже предчувствовали в нем императора. Между нововведениями времен консульства более всех отличается Свод Гражданских Законов. Напрасно говорят, будто это исключительно произведение многих великих юрисконсультов тогдашней эпохи. Все знают, что Бонапарт постоянно сообщал им свои замечания, и даже не раз случалось, что одним счастливым словом, одной из тех искр, которые может рассыпать только гений, решал затруднения, из которых законники никак не могли выпутаться. Таким образом, он велел прибавить всю V главу в положении о гражданских актах, которой ясно и чисто определяются гражданские нрава военных во время бытности их вне границ отечества. Когда ему заметили, что для актов, совершаемых военными за границей, будет достаточно, если они совершатся по положениям, существующим в той стране, где подписаны, Бонапарт тотчас ответил: «Когда военный под своим знаменем, то он в своем отечестве: где наше знамя, там и наше отечество». Между тем Амьенский договор оставлял в бездействии в руках Наполеона все военные силы Франции, и тогда-то первый консул придумал, пользуясь спокойствием в Европе, перенести оружие в Америку и покорить остров Сент-Доминго. Начальником этой экспедиции он назначил зятя своего Леклерка (Leclerc). Экспедиция не была успешна. Важнейшим последствием было похищение начальника негров Туссен-Лувертюра, человека очень замечательного в той стороне; он привезен во Францию и умер в крепости Жу. Леклерк погиб, жалея, что взялся за дело, которого не мог привести к желаемой развязке. Рошамбо, занявший его место, вовсе потерял колонию из-за своего слишком строгого обращения с туземцами. 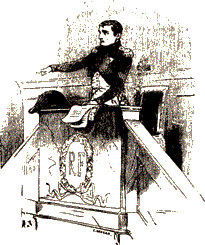 Италия, колыбель славы и могущества Наполеона, привлекала также его внимание. В 1802 году он был избран президентом Цизальпинской республики, что согласовалось с его видами. «У вас только одни частные законы, — сказал он депутатам от этой республики; — вам нужны законы общие. Ваш народ имеет только одни местные обычаи; ему должно принять обычаи самостоятельной нации». В течение этого года Бонапарт присоединил к Франции Пьемонт и разделил его на шесть департаментов: По, Доара, Сезия, Стура, Танаро и Маренго.
 Первые дни 1803 года были ознаменованы преобразованием Национального института (Академии наук и изящных искусств), который разделен на четыре класса: 1) науки; 2) языковедение и литература; 3) история и древняя литература; 4) художества. Это новое учреждение исключало науки нравственные и политические, что было следствием нерасположения Бонапарта к некоторым публицистам и метафизикам, которые осмелились было возвысить голос и порицать его гражданские постановления. К тому же времени относится основание первым консулом весьма значительных учебных заведений: военной специальной школы в Фонтенбло и специальной школы художеств и ремесел в Компьене. Успокоив отечество, Наполеон хотел принять на себя посредничество в распрях Гельветической конфедерации. По этому поводу он дал Швейцарии новое уложение, кончившее все споры между старинными кантонами. Девятнадцать областей, имеющих каждая свою конституцию, составили, под верховным покровительством Франции, новую Гельвецию. Первый консул обратился в ней с прокламацией, к которой, между прочим, было сказано: «Нет ни одного рассудительного человека, который бы не увидел, что посредничество, которое я принял на себя, есть для Гельвеции благодеяние того Провидения, которое посреди остальных смут и колебаний всегда хранило существование и независимость вашей нации, и что только это посредничество остается вам единственным средством сохранить то и другое». Иностранные кабинеты, особенно лондонский, не могли, конечно, равнодушно смотреть на развивающееся могущество Франции и на полновластие в ней Бонапарта. Тори беспрестанно нападали на него в своих газетах. Наполеон велел напечатать в «Мониторе»: «Часть английских журналистов не перестает требовать войны... Их негодование возбуждается более всего делами Швейцарии, которые благополучно приведены к окончанию...» Официальная нота к великобританскому правительству оканчивалась изъявлением желания сохранить мир, но и давала разуметь, что в случае нужды Франция готова будет приняться за оружие, и что угрозами от нее ничего не получат. За этой нотой последовала другая, которая заключалась следующими примечательными словами: «Скорее волны океана подроют скалу, которая в течение сорока веков противится их усилиям, чем неприязненная партия успеет разжечь войну и все ее ужасы в сердце Запада, или, что еще невероятнее, заставить хотя на одно мгновение побледнеть звезду французского народа». Но скоро для первого консула наступило время, когда ему уже нельзя стало довольствоваться одной полемикой с английскими журналистами; и в «Мониторе» было напечатано: «Газета Times, которая, говорят, состоит под надзором министерства, беспрерывно восстает против французского правительства... Она обвиняет его в поступках самых низких, самых черных. Какая же ее цель?.. Кто подкупил ее?.. Другой журнал, издаваемый эмигрантами, перещеголял в этом случае Times, и осыпает нас ругательствами. Одиннадцать прелатов собрались в Лондоне и под председательством арраского епископа бранят французское духовенство... Множество французов, осужденных за разные преступления, совершенные уже после заключения Амьенского трактата, нашли себе убежище на острове Джерси... Жорж, изобретатель адской машины, публично носит в столице Англии красную ленту...» После таких резких обвинений амьенскому миру было мудрено оставаться продолжительным. 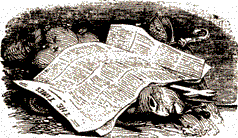
|

