
Плавание от Александрии до Фрежюса было не без невзгод и опасностей. Отходя от египетского берега, флотилия должна была бороться с ветром до того противным и сильным, что адмирал предложил было возвратиться в гавань; и это предложение, одобряемое всем экипажем, было бы непременно приведено в исполнение, если б не твердая воля и не отважная решительность Бонапарта, который, несмотря ни на какие затруднения и опасности, хотел во что бы то ни стало исполнить высокое назначение судьбы, ожидавшее его в Европе. Эта твердость воли и приказание, отданное им плыть вдоль африканских берегов до высоты Сардинии, спасли флотилию от английских крейсеров. Ожидание утомительного карантина и появление на море каждого, даже небольшого, судна удивительно тревожили Наполеона. В Аяччо узнал он о бедственном поражении французов под Нови и немедленно хотел принять руководство итальянской армией. Он говорил: «Известие о новой моей победе пришло бы в Париж вместе с известием о победе под Абукиром. Это бы славно!» Очевидно, что Бонапарт чувствовал необходимость загладить каким-нибудь блестящим подвигом неблагоприятное впечатление, произведенное на умы его отъездом из Египта, отъездом до того неожиданным, что мог навлечь на него упрек в том, что он просто бросил свою армию. Но когда Наполеон узнал о всей значительности потерь, понесенных французами от русских войск в Италии, то утратил надежду на воображаемые успехи и впал в такое уныние, что сказали, будто он носит траур по Италии. Между тем усердие жителей Фрежюса избавило Бонапарта от скучного карантина. Едва узнали они о прибытии знаменитого генерала в свой порт, как выехали на множестве лодок в море и окружили корабль, на котором он находился. Народ кричал и приветствовал приезжих. Таким образом, меры карантинной осторожности сделались вовсе бесполезными, и Наполеон воспользовался этим случаем, чтобы поспешить в Париж. 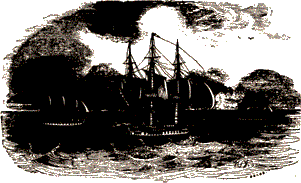 Какого бы общественного мнения ни должно было ожидать главнокомандующему, который оставил вверенную ему армию за морем, в климате нездоровом, под зноем палящего солнца, однако же огромное большинство нации приняло его как освободителя. Демократия нанесла уже Франции столько внутренних язв, что опротивела всем. Никто и ничего не ждал от новых учреждений правительства, которое было не что иное, как попеременная тирания разных партий; а если вспомнить, что оно в текущем положении дел не сумело даже удержать за собой ни прежнего достоинства, ни воспользоваться плодами прежних блестящих компаний, то легко будет понять, что умы вообще были расположены к желанию большого политического переворота. Но какой будет этот переворот, и кто один или кто многие совершат его? Вот о чем все спрашивали друг друга, и что подавало повод к тысяче соображений, опасений и надежд, смотря по видам и целям тех, которые занимались этими вопросами.  Переворот не мог совершиться в пользу демократии, исключительно обвиняемой в беспорядках и анархии, прекращения которых нетерпеливо желала вся нация; не мог он также быть и в пользу законной королевской власти, потому что большинство ослепленного народа все еще противилось этому, и события фруктидора доказали, что армия поддержит народ. Потому-то общественное мнение, очевидно, клонилось к сосредоточению власти в могучих руках, однако же в духе революции, а отнюдь не против его. В таком положении дел Франции нужен был человек, который бы мог выполнить много условий. Ему надо было уничтожить демократию, но уничтожить ее сообразно с направлением революции; соединить в себе сборную диктатуру национальных собраний, которые властвовали во имя народа; быть признанным за человека, глубоко напитанного учением настоящего времени и уже оказавшего отечеству достаточные заслуги; надобно было также, чтобы народ видел в нем вождя, способного защищать его от неприятелей внешних, и чтобы притом имя его не было запятнано как имена извергов, стоявших сначала во главе революционеров. И давно уже нашелся человек, который предчувствовал себя способным к исполнению столь важного назначения, человек, честолюбие которого дожидалось только случая взяться за это дело, потому что он видел, что выполняет все требуемые условия. То, что Бонапарт предвидел и желал, так согласовалось с общими желаниями и нуждами, что возвращение его в Париж не могло не быть предвестником события, которым должна была начаться новая фаза французской революции. Поэтому, лишь узнав о его прибытии, все партии начали стараться с ним сблизиться, стали искать в нем поддержки и думали употребить его на пользу своих планов и преднамерений. Большинство Директории, то есть Баррас, Гойе и Мулен, хотели сохранить конституцию III года: Баррас потому, что находил при ней возможность удержать свою власть, а Гойе и Мулен потому, что искренне верили в возможность поддержать республиканское правительство в теперешнем его виде. Напротив того, Сиейес (Sieyes), который в глубине души питал уважение к священной королевской власти, искал только случая быть ей полезным. Что касается Роже Дюко, то он во всем совершенно соглашался с Сиейесом. Однако же Бонапарт сначала не разгадал было этого неизбежного сообщника и даже обошелся с ним с обидным презрением на обеде, данном ему Гойе, на другой день свидания его с членами Директории, при котором с обеих сторон была обнаружена взаимная холодность. По выходе из-за этого обеда Сиейес сказал: «Взгляните, как этот маленький нахал обращается с членом властительного собрания, которому бы следовало велеть его расстрелять!» Но это взаимное неблагорасположение метафизика с воином вскоре уступило их общему желанию изменить политическое положение Франции. Раз кому-то случилось сказать при Бонапарте: «Ищите поддержки в тех людях, которые считают за якобинцев всех друзей республики, и будьте уверены, что Сиейес стоит в числе этих людей», с той поры нерасположение Наполеона к Сиейесу уменьшилось, или, по крайней мере, он начал скрывать это чувство, чтобы привлечь на свою сторону человека, которому прежде оказывал презрение. Директория, желая избавиться от опасного соседства, хотела предоставить Бонапарту начальство над любой армией. Но это предложение, лестное бы для всякого другого, не могло льстить самолюбию будущего императора.  Происшествия восемнадцатого брюмера были предварительно обсуждены в совете Люсьеном Бонапартом, Сиейесом, Талейраном, Фуше, Реалем, Реньо де Сен Жан д'Анжели и некоторыми другими. Особенно Фуше показал себя нетерпеливым в уничтожении республиканской системы; он сказал секретарю Наполеона: «Пусть ваш генерал поторопится; если он промедлит, то погибнет». Камбасарес и Лебрен присоединились не вдруг. Роль заговорщиков не согласовалась с осторожностью одного и с умеренностью другого. Бонапарт, узнав о их нерешительности, вскричал, как будто уже располагая судьбами Франции: «Не хочу проволочек; пусть они не думают, что нужны мне, пусть решаются сегодня, а если нет, так завтра будет поздно, я чувствую себя в силах действовать и без посторонней помощи». Почти все генералы, пользующиеся некоторой известностью и бывшие в ту пору в Париже, вошли в ряды Бонапарта, сам Моро предоставил себя в его распоряжение. Но знаменитому заговорщику недоставало содействия того из своих товарищей по оружию, чьи таланты и характер внушали ему самые большие опасения. Бывший тогда военным министром генерал Бернадот хотел защищать республику и конституцию III года. Однако же Иосиф Бонапарт, родственник Бернадота, успел уговорить его приехать к брату в самое утро восемнадцатого брюмера. Все генералы собрались уже в полной парадной форме, один генерал Бернадот приехал в гражданском платье. Это показалось очень досадным Наполеону, он тотчас взял его за руку и вышел с ним в кабинет, где немедленно и искренне открыл ему свои намерения. Наполеон сказал Бернадоту: «Ваша Директория всем ненавистна, необходимо изменить образ правления. Наденьте мундир: я не могу вас дожидаться; вы найдете меня в Тюильри, в кругу всех наших товарищей. Не надейтесь ни на Моро, ни на Бернонвилля, ни на других близких к вам генералов. Когда вы лучше узнаете людей, то увидите, что они много обещают, да мало делают. Не доверяйте им». Бернадот отвечал, что он не намерен принимать участия в революции, и Бонапарт потребовал от него обещания оставаться по крайней мере нейтральным. Сначала Бернадот согласился только наполовину. «Я останусь спокойным как гражданин, — отвечал он, — но если Директория даст мне приказание действовать, то стану действовать». Получив такой ответ, Бонапарт не увлекся пылкостью своего характера, а напротив, рассыпался в самых лестных обещаниях перед человеком, чье влияние, ум и храбрость могли ему быть очень полезными. Между тем Совет старейшин прислал Наполеону следующий декрет: «1) Законодательное собрание перемещается в Сен-Клу. 2) Члены Совета соберутся туда завтра, 19 числа, в полдень. 3) Исполнение настоящего декрета возлагается на генерала Бонапарта. Он должен принять надлежащие меры для безопасности народного представительства. Вся национальная гвардия и войска, находящиеся в Париже и его окрестностях, и войска всего семнадцатого военного округа поступают немедленно в его непосредственное распоряжение... 4) Генерал Бонапарт должен явиться в Совет старейшин для принесения присяги...» Наполеон ожидал получения этого декрета, написанного по его согласию с членами Совета, державшими его сторону. Он прочитал его собранным войскам и прибавил, что надеется на их полную доверенность. Декрет Совета старейшин был обнародован при барабанном бое по всем кварталам Парижа. Потом Бонапарт издал прокламацию, в которой говорил: «Я беру на себя попечение о безопасности народного представительства...» Таким образом, Бонапарт был, по-видимому, законно облечен в полновластие над столицей, а Директория ничего не предпринимала, и, сказать к ее оправданию, не могла ничего предпринять. Гойе простосердечно сидел у себя дома, в Люксембурге, дожидаясь к обеду главу заговорщиков, который в этот день напросился к нему обедать специально для того, чтобы посредством этого удержать президента республики в его столовой. Мулен выражал свое негодование в бесполезных представлениях. Баррас получил известие, что политический переворот, от которого он ждал личных выгод, будет приведен в исполнение без его участия. Сиейес и Роже Дюко решили сдать должности и сами были в числе заговорщиков. Следовательно, Бонапарт мог встретить препятствия разве в одном Совете.  Он явился на его заседание 19 числа, в час пополудни, предварительно заняв все важные пункты своими войсками под командой преданных ему генералов, с собой он взял Бертье, Мюрата, Ланна и некоторых других. О Гойе и Мулене сказали народу, будто они отказались от директорства, чего вовсе не было. Сиейес и Роже Дюко отказались действительно, и первый имел осторожность попросить, чтобы его держали под домашним арестом. Баррас, убежденный Талейраном, также отказался и немедленно отправился в Гробуа, оставив к президенту Совета старейшин письмо, в котором сказал, что «с радостью вступает снова в ряды недолжностных граждан». Несмотря на то, что заговорщики считали себя членами Совета старейшин, Бонапарт встретил в его членах больше сопротивления, чем ожидал, до того, что привыкнув в армии быть окруженным людьми, беспрекословно покорными его воле, он здесь совершенно смешался и едва не утратил всех приобретенных уже выгод. Он то говорил слова без связи, то оправдывал свое поведение прошедшими заслугами. Наконец, когда Лангле нашел случай напомнить ему о конституции, Наполеон ободрился и вскричал: «Конституция! Вы действовали вопреки ей восемнадцатого фруктидора, двадцать второго флореаля, тридцатого прериаля. Конституция! Да на нее опираются все партии, и все действуют вопреки ей!.. И нынче, разве заговор опирается не на конституцию?.. Если уж пришлось говорить искренне, так я скажу вам, что директоры Баррас и Мулен предлагали мне стать во главе партии, желающей ниспровергнуть все либеральные идеи».  Эти слова взволновали все страсти. Совет потребовал, чтобы Бонапарт вполне объяснился перед лицом нации. Тут замешательство его возросло до высочайшей степени, и он не нашелся сделать ничего более, как, удаляясь, вскричать: «Кто меня любит, тот ступай за мной!» В Пятисотенном Совете буря была еще сильнее, потому что большинство его членов оставалось непоколебимым в преданности к республике и конституции. Представители принимали новую присягу, желая поддержать существующий порядок, как двери Совета растворились, и вошел Бонапарт. Его появление возбудило почти общее негодование. Со всех сторон раздались крики: «Вон диктатора! Вон Кромвеля! Для Бонапарта нет покровительства законов!» Наполеон увидел, что не может устоять против грозы, немедленно возвратился к своему конвою и поехал к войску. Тут он почувствовал себя в своей сфере и совершенно ободрился, когда увидел Люсьена, президента Пятисотенного Совета, поспешившего на помощь брату со своим красноречием, мужеством и деятельностью. Люсьен сел на коня, поскакал вдоль строя солдат и вскричал голосом человека, которому еще кажется, что видит перед собой убийц и кинжалы:  «Граждане воины! Я, президент Пятисотенного Совета, объявляю вам, что подавляющее большинство его членов находится теперь под страхом кинжалов некоторых своих товарищей, которые вынуждают других разделять свои ужасные намерения. Я объявляю вам, что эти дерзкие разбойники, которые, без сомнения, подкуплены Англией, взбунтовались против Совета старейшин и осмелились сказать, что генерал, которому он поручил исполнение декрета, лишается покровительства законов!... Я, во имя народа, который уже столько лет служит игрушкой этим презренным остаткам времен ужаса, поручаю покровительству воинов большую часть членов совета; пусть штыки избавят их от кинжалов, и тогда они свободно займутся решением участи республики. Генерал, и вы, воины и граждане, вы должны признавать законодателями Франции только тех, которые будут со мной, своим президентом. Остальных выгоните вон из собрания. Эти разбойники уже не народные представители, а только представители кинжалов...»
 Однако же войско, несмотря на эту речь, оставалось в нерешительности. И, чтобы кончить все дело разом, Люсьен прибавил: «Клянусь поразить родного брата, если когда-нибудь посягнет на благосостояние французов!» Клятва эта, произнесенная сильным голосом, победила нерешимость войска. Однако же Бонапарт не без сильного волнения приказал Мюрату идти со своими гренадерами и разогнать народных представителей. Зала Совета была очищена в одну минуту. Но чтобы придать своим действиям тень законности, заговорщики восемнадцатого брюмера постарались соединить хоть сколько-нибудь членов разогнанного ими собрания. Люсьен собрал кое-как в Сен-Клу тридцать человек народных представителей, которые согласились машинально исполнять должность верховной власти, бывшей уже на самом деле в руках Наполеона, и издали декрет, которым уничтожалось прежнее правительство и учреждалось консульство, назначенное из трех лиц: Сиейес, Роже Дюко и Бонапарта. Этот великий политический переворот последовал в девять часов вечера. Был уже одиннадцатый час ночи, а Бонапарт за весь день не успел еще съесть и куска хлеба. Но возвратясь домой, он не занялся удовлетворением физических нужд, а написал прокламацию к французскому народу: «При возвращении моем в Париж я нашел разъединение всех властей, которые соглашались только в одном том, что конституция вполовину уничтожена и не может охранять отечественного блага! Все партии обратились ко мне, доверили мне свои планы, открыли тайны и просили моей помощи: я отказался пристать к которой бы то ни было. Совет старейшин потребовал моего содействия; я исполнил его волю. План общего возобновления был составлен лицами, в которых нация привыкла видеть защитников прав собственности». Вслед за этим Бонапарт излагает события в Сен-Клу и подтвердив своим свидетельством смелую выдумку Люсьена о кинжалах, заканчивает так: «Французы! Вы, конечно, отдадите справедливость усердию воина и гражданина, преданного пользе отечества...» 
|

