
ервыми правительственными мерами, вызвавшими в обществе раздражение против Сперанского, были указы 3 апреля 1809 г. о лицах придворных званий и 6 августа того же года об экзаменах на чины.
Со времени Екатерины II звание камер-юнкера и камергера, как бы ни были молоды лица, их получившие, давали прямо чин: первое V, а второе — IV класса. Вследствие этого молодые люди знатных фамилий нередко занимали по своим придворным чинам прямо высшие места к ущербу людей, действительно заслуженных и знающих. Указом 3 апреля 1809 г. (данным по предложению Сперанского) лицам, имевшим уже звание камергеров и камер-юнкеров и не состоявшим в военной или гражданской службе (император Александр I называл их полотерами), повелено было избрать в течение двух месяцев род действительной службы, впредь же эти звания, при пожаловании их, считать отличиями, не приносящими никакого чина. Через четыре месяца велено было всех камергеров и камер-юнкеров, не заявивших желания поступить на действительную службу, считать в отставке. С этого времени началась злоба аристократии на дерзкого поповича; недовольные указом говорили, что он нанес последний удар старинному дворянству.
Указ об экзаменах на чины был подготовлен именным указом Сенату (данным 24 января 1803 года), которым было постановлено, чтобы, через пять лет со времени предписанного тогда учреждения училищ, в каждом округе никто не был определяем к должностям, требующим юридических и других познаний, не окончив курса в общественном или частном училище. Однако число учащихся в высших и средних учебных заведениях медленно увеличивалось. Сославшись на это в своей записке, доложенной государю 11 декабря 1808 г., Сперанский обратил его внимание на неудобство чинов, даваемых «большей частью по летам службы». Он указал, между прочим, и на то, что чины дают дворянство, основанное «на крепостном владении людьми», и таким образом увеличивают «массу, народ тяготящую», причем лица, получившие дворянство выслугой, «бывают и горше, и алчнее старых». Доказывая, что «чины не могут быть признаны установлением для государства ни нужным, ни полезным», он считал наиболее целесообразным возвращение к старому порядку, когда чины означали места, действительно занимаемые, когда коллежский секретарь был действительно секретарем коллегии. Но это преобразование требует, по его мнению, мер подготовительных. Сперанский предлагал, между прочим, награждать чином коллежского асессора, дававшего тогда право на потомственное дворянство, только тем, которые «будут обучаться» или выдержат экзамен в университетах [1]. Составленный им проект указа на этот раз утвержден не был, но Сперанский добился осуществления его даже в большем размере в указе 6 августа 1809 г., которым было повелено не производить в чин коллежского асессора, хотя бы и по выслуге определенного числа лет, лиц, не окончивших курса в университете или не выдержавших в нем экзамена. То же требовалось и для производства в статские советники сверх службы не менее 10 лет. Для не обучавшихся в университете установлена была особая программа испытаний. Насколько ненавистна была эта мера для массы чиновничества, видно из слов Карамзина в «Записке о древней и новой России» и Вигеля в его записках, а также и из того, что через четыре дня после ссылки Сперанского был сделан первый шаг к допущению исключений из правил указа 6 августа [2].
Ненависть к Сперанскому быстро возрастала. Сам он в отчете за 1810 г., представленном государю 11 февраля 1811 г., говорит:
«В течение одного года я попеременно был мартинистом, поборником масонства, защитником вольности, гонителем рабства и сделался, наконец, записным иллюминатом. Толпа подъячих преследовала меня за указ 6 августа эпиграммами и карикатурами; другая такая же толпа вельмож со всей их свитой, с женами их и детьми меня, заключенного в моем кабинете, одного, без всяких связей, меня, ни по роду моему ни по имуществу не принадлежащего к их сословию, целыми родами преследуют, как опасного уновителя. Я знаю, что большая их часть и сами не верят сим нелепостям; но, скрывая собственные их страсти под личиной общественной пользы, они личную свою вражду стараются украсить именем вражды государственной: я знаю, что те же самые люди превозносили меня и правила мои до небес, когда предполагали, что я во всем с ними буду соглашаться, когда воображали найти во мне послушного клиента..., но как скоро движением дел приведен я был в противоположность им и в разномыслие, так скоро превратился в человека опасного».
В этой благородной самозащите нельзя не обратить внимания на то, что Сперанского считали «гонителем рабства», а это делало его ненавистным не для одной уже знати, а для всего дворянства. Действительно, мы видели, что даже в основе указа 6 августа 1809 г. лежало отчасти желание уменьшить количество лиц, имеющих право владеть крепостными; во «Введении к уложению государственных законов» он требовал серьезных мер для ограничения крепостного права [3].
Сперанский понимал также связь между самодержавием, опирающимся на дворянство, крестьянской неволей и политическим рабством еще в 1802 г. он писал: «Пользы дворянства состоят в том, чтоб крестьяне были в неограниченной их власти; пользы крестьян состоят в том, чтоб дворянство было в такой же зависимости от престола». Поэтому он находил в России лишь два сословия: «рабы государевы и рабы помещичьи». Понятно, что Сперанский был ненавистен массе дворянства не только как гонитель рабства, но и как «защитник вольности» в политическом смысле, так как всякое либеральное выступление императора Александра (как, например, позднее речь его в 1818 г. на польском сейме) вызывало в дворянах опасение за их власть над крепостными. Желая опровергнуть обвинение, что он старается все дела привлечь в свои руки, Сперанский в отчете за 1810 г. просил государя сложить с него звание государственного секретаря и дела финляндские и оставить при одной должности директора комиссии для составления законов, но просьба его уважена не была.
Вслед за тем в марте того же 1811 года Сперанскому был нанесен тяжелый удар. Для полного понимания хода событий следует сообщить некоторые сведения об отношениях императора Александра к его сестре Екатерине Павловне, женщине умной, резкой и весьма честолюбивой, которую он страстно любил. Честолюбие, желание играть роль было самой видной чертой ее характера [4]. Быть-может, не случайно именно ее император Павел хотел обручить с принцем Евгением Вюртембергским, которого он думал в конце жизни сделать своим наследником, а в 1807 г. недовольство в обществе сближением Александра I с Наполеоном вызвало болтовню не только в частных домах, но даже и в общественных собраниях о необходимости возвести на престол великую княгиню Екатерину [5]. В период искания ей женихов императрицей Марий Федоровной, уже в царствование Александра I, Екатерина Павловна готова была выйти замуж даже за безобразного и антипатичного австрийского императора Франца. В апреле 1809 г. она стала женою принца Георгия Ольденбургского, который был назначен главнокомандующим путями сообщения и генерал-губернатором тверским, новгородским и ярославским. Император Александр любил навещать сестру в Твери и продолжал писать ей нежные, иногда даже страстные письма [6]. В переписке с братом она никогда не упоминала об императрице Елизавете Алексеевне, с которой была в дурных отношениях, но зато всегда наведывалась о другой семье государя, М. А. Нарышкиной (имевшей двух детей от императора Александра), зная, что это ему очень приятно. С матерью, Марией Федоровной, она, как и государь [7], не ладила, и та говорила о дочери: «У нее самые лучшие губернии в России, а она все недовольна! Я не знаю, чего хочет Екатерина» [8].
Государь любил беседовать с Екатериной Павловной о самых серьезных вопросах. В конце декабря 1810 г., собираясь навестить ее в Твери в будущем году, он составил заранее программу разговоров, чтобы «вести их в большем порядке и чтобы иметь время поговорить» обо всем: 1) о политике, 2) о военных действиях, 3) о внутреннем управлении. В этом последнем отделе были намечены: 1) отчет государственного секретаря (Сперанского), 2) его частный отчет, 3) мысли о предполагаемых учреждениях и проч. Таким образом то, что писал Сперанский в своем частном отчете для одного государя, становилось известным великой княгине Екатерине, а через нее, вероятно, и лицам, к ней приближенным.
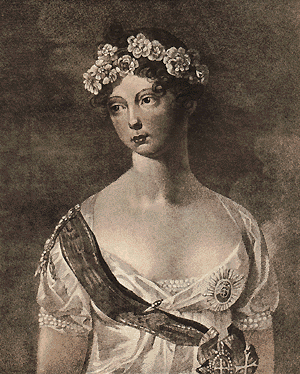
Екатерина Павловна. (Тишбейн).
|
Екатерина Павловна слыла истинной патриоткой; она познакомилась в конце 1809 г. в Москве, куда привез ее государь, с Н. М. Карамзиным; у нее в Твери бывал также гр. Ф. В. Ростопчин, потешавший ее разными курьезными рассказами и, между прочим, об ее отце (которому он был так многим обязан). Оба они враждебно относились к Сперанскому и встретили в этом отношении сочувствие в великой княгине. Нужно заметить, что в заведывании Сперанского находилась официальная переписка с принцем Георгием Ольденбургским, и великая княгиня, очень охранявшая достоинство своего мужа и однажды написавшая из-за него очень неприятное письмо даже самому императору, как говорят, и в этом отношении нашла повод быть недовольной Сперанским [9]. Раздражение Екатерины Павловны доходило до того, что, как рассказывает Лубяновский, она жаловалась ему на слабость брата, на то, что «кому удастся подчинить его своему влиянию, тот им и руководит», говорила, что Сперанский разоряет государство и ведет его к гибели [10], что «он преступник, а брат мой и не подозревает этого». — «Можно ли такого злодея при себе держать», восклицал и принц. Лубяновский сообщил об этом Сперанскому еще в 1810 г. и в своих записках говорит, что с этого времени начал за него опасаться.

Итальянский фонтан в Петергофе
(грав. Галактионова).
|
Екатерина Павловна пригласила Карамзина навещать ее в Твери, и он был у нее затем несколько раз и читал ей отрывки из своей «Истории». В феврале 1811 г. он провел с женой две недели в Твери, куда привез с собою записку «О древней и новой России», написанную по настоятельной просьбе Екатерины Павловны для государя, прочел ее великой княгине, задававшей ему много вопросов, и отдал ее ей [11]. Предупрежденный ею и получив известие от Дмитриева, что государь желает видеть его, Карамзин приехал в Тверь. Екатерина Павловна вновь говорила с ним о его записке и однажды сказала, что находит ее «очень сильной», т.е. смелой. Государь с большим вниманием слушал каждый день чтение отрывков из «Истории» Карамзина, говорил с ним о самодержавии, причем историк был за него, а государь — против, осыпал его любезностями, приглашал его в Петербург, говоря, что великая княгиня, конечно, поместит его в своем Аничковом дворце, но, прочтя записку, которую она передала ему 18 марта с надписью a mon frere seul, отнесся к нему с заметной холодностью.
Записка Карамзина, при первом ее чтении, действительно могла раздражить императора Александра: автор указывал на «любострастность» двора Екатерины, на раздачу «государственных богатств» тем, кто имел только красивое лицо, выражал мнение, что «как люди ни развратны, но внутренне не могут уважать развратных», что, вспоминая слабости Екатерины, «краснеешь за человечество». Карамзин дал здесь в нескольких строках блестящую характеристику деспотизма Павла, называя его тираном, говорил об общей ненависти к нему, о восторге, вызванном его смертью. Воспоминание о дне 11 марта 1801 г., когда был убит император Павел, было зияющей раной в груди Александра I всю его жизнь, и в нем не могло не вызвать тяжелого страдания не совсем тактичное утверждение Карамзина, что в этом случае, «не сомневаясь в добродетели Александра, судили единственно заговорщиков». Но далее Карамзин не жалел указаний на серьезные недостатки правления и самого Александра: заявлял, что Россия «наполнена недовольными», порицал внешнюю политику правительства, называл важнейшей ошибкой Тильзитский мир и разрыв с Англией, утверждал, что ни за что не следовало допускать образования герцогства Варшавского, что, завоевав Финляндию, мы заслужили «ненависть шведов, укоризну всех народов», что, может, было бы лучше потерпеть еще раз поражение от французов, чем следовать в этом случае «их хищной системе», высказывался вообще против нововведений, не одобрял учреждения министерств, так как министры заслонили собой Сенат, стали между государем и народом, ответственность же их пред Сенатом осталась «пустым обрядом», высказывал крепостнические мнения по крестьянскому вопросу, советовал принимать дворян в военную службу прямо офицерами почти без всякого образовательного ценза, указывал на вред парадомании. Все это не могло понравиться императору Александру.
Немало обвинений досталось в этой записке и на долю Сперанского, хотя имя его не было названо. Учреждением Государственного Совета Сенат унижен, формула — «вняв мнению совета» не имеет смысла в самодержавном государстве, право министра не скрепить своей подписью указ государя (по министерскому наказу) равносильно заявлению перед всеми, что указ вреден, «указ об экзаменах осыпан везде язвительными насмешками». Вызывает в Карамзине порицание и признание государственным долгом ассигнаций, причем мнение его относительно их выпуска крайне наивно.
Но, в конце-концов, программа историка, сводившаяся к тому, что нужны только хорошие губернаторы, что нововведений не требуется, что государь не имеет даже права ограничить самодержавие, что оно «палладиум России», «целость» которого «необходима для ее счастья», могла явиться приятной поддержкой нерешительности государя, его опасения серьезных реформ, и по возвращении имп. Александр сказал Коленкуру, что «нашел в Твери очень разумных людей».
Обсуждение проекта преобразования сената в Государственном Совете происходило уже после представления Карамзиным этой записки. Посылая 5 июля 1811 г. Екатерине Павловне печатный проект этого преобразования, государь присоединил для принца Георгия наказ министрам в окончательном виде, а также учреждение Министерства Полиции, и желал знать мнение Екатерины Павловны и ее мужа об этих уставах. Преобразование министерств не дешево обошлось Сперанскому:
«Здесь каждый министр, — писал он позднее в пермском письме государю, — считал вверенное ему министерство за пожалованную ему деревню, старался наполнить ее и людьми, и деньгами. Тот, кто прикасался к сей собственности, был явный иллюминат и предатель государства, — и это был я. Мне одному против осьми сильных надлежало вести сию тяжбу... В самых правилах наказа надлежало сделать важные перемены... преградить насильные завладения одной части над другой... Можно ли было сего достигнуть, не прослыв рушителем всякого добра, человеком опасным и злонамеренным?»
Если верить свидетельству И. И. Дмитриева, министра юстиции и человека, близкого Балашову, государь уже в августе 1811 г. велел министру полиции присматривать за Сперанским. А. Д. Балашов, бывший с 1808 г. обер-полицмейстером в Петербурге, с 1809 г. — испр. обяз. петербургского военного губернатора, с 1810 г., по представлению Сперанского, очевидно, недостаточно его знавшего, был назначен членом Государственного Совета и министром полиции. Корыстный картежник в молодости, он на вверенном ему служебном посту зарекомендовал себя лихоимством и склонностью к усиленному шпионству.
Кочубей писал впоследствии императору Александру, что Балашов, став во главе Министерства Полиции, «превратил его в министерство шпионства. Город наполнился шпионами всех цветов, — наемными шпионами русскими и иностранцами, шпионами-друзьями, сплошь и рядом переодетыми полицейскими офицерами, причем в переодевании, как говорят, принимал участие и сам министр. Эти агенты не ограничивались тем, что стремились узнавать новости и давать возможность правительству предупреждать преступления; они старались создавать преступления и возбуждать подозрения. Они вступали в откровенности с людьми различных классов, жаловались» на государя, «критикуя меры правительства, лгали, чтобы вызвать также откровенные заявления или жалобы» (существовала, следовательно, провокация). «Все устраивалось потом согласно видам тех, которые руководили этим делом. Маленькие люди, испуганные доносами, входили в сделки с второстепенными чиновниками, как Санглен (правитель особенной канцелярии Министерства Полиции)» и другие; о более известных лицах сообщалось министру, который пользовался этими сведениями по своему усмотрению.
Другим лицом, сыгравшим крупную роль в падении Сперанского, был барон Густав-Мориц Армфельт, пользовавшийся немалой известностью в Швеции в конце XVIII и в начале XIX века. По завоевании Финляндии, где у него были большие поместья, он приехал в июле 1810 г. в Петербург. Один из самых искусных интриганов своего времени, человек чрезвычайно честолюбивый, он сумел завоевать себе положение в высших петербургских сферах. Сперанский, не имевший времени заниматься порученными ему делами Финляндии в той степени, как они этого требовали, сам содействовал возвышению Армфельта. Вероятно, он был подкуплен некоторыми его либеральными стремлениями. По словам его биографа [12], он освободил своих крепостных в старой Финляндии (Выборгской губернии) и склонял государя к прекращению крепостного права в России, занимался интересами Польши, где, по поручению императора Александра, имел постоянных корреспондентов, и писал для нее проект конституции, состоял в сношениях с гр. Огинским, которым был представлен проект образования из северо-западных губерний княжества Литовского с целью его будущего соединения с герцогством Варшавским и образования таким образом польского королевства с присоединением к нему Галиции; он же составлял план для отражения ненавистного ему Наполеона на случай его вторжения в Россию. Впоследствии, когда Сперанский разгадал характер Армфельта, он отметил в нем «чудовищное соединение откровенности и прямодушия с коварством и плутовством». В 1811 г. он был назначен председателем финляндской комиссии, устав которой, написанный Сперанским, был утвержден в начале сентября этого года; это открыло ему возможность непосредственных докладов императору и работы с ним по финляндским делам, Сперанский же был от них освобожден. Казалось бы, после этого Армфельту не за что было недружелюбно относиться к Сперанскому, и он даже писал в ноябре 1811 г., что находится с ним «в добром согласии»; это было бы тем естественнее, что взгляды Сперанского на Финляндию были вообще весьма благоприятны для финляндских патриотов: он считал эту страну «государством, а не губернией», а финляндский сейм — «прочным основанием для предстоящей организации страны»; им были написаны не только две речи императора при открытии и закрытии сейма в Борго, но и грамота («Обнадеживание всем жителям Финляндии») 15 марта 1809 г., которой государь подтверждал сохранение коренных законов и конституции Финляндии. Но Армфельту, видимо, хотелось добиться такого же влиятельного положения относительно государя, какое занимал Сперанский (ненавистный ему еще и потому, что он считался сторонником во внешних сношениях союза с Наполеоном), а для этого нужно было удалить талантливого государственного секретаря.
В своей французской оправдательной записке Сперанский говорит: «Два лица, уже пользовавшиеся доверием императора, предложили Сперанскому посвятить их в свои виды и учредить секретный и анонимный комитет, который управлял бы всеми делами, между тем как совет и сенат явились бы простыми исполнителями. Сперанский с полною прямотой отверг это предложение, но был настолько неловок, что не сообщил об этом императору. Это была капитальная ошибка. Как человек кабинетный, он не сумел в этом случае распутать все тонкие нити уже составленного заговора. Он не понял, что такого рода сообщение не могло быть оставлено без последствий. Нужно было или покориться, или бороться. Сперанский не сделал ни того, ни другого и скоро был опрокинут».

Мария Федоровна (с портр., принадл.
принц. Саксен-Люксембургской).
|
Впоследствии он рассказывал А. В. Воейкову, что это произошло в конце октября 1811 г. и что упросил его принять Балашова и Армфельта Магницкий, один из его подчиненных по службе в Государственном Совете, статс-секретарь по департаменту законов, дружески принятый у него в доме. По показанию Лубяновского со слов Сперанского, он отвечал на предложение Балашова: «Упаси, Боже, вы не знаете государя, он увидит тут прикосновение к своим правам, и нам всем может быть худо». Магницкий, которому он рассказал об этом разговоре, советовал немедленно довести о нем до сведения государя, но Сперанский полагал, что это было бы «подлой интригой с его стороны». В декабре 1811 г., не доверяя и Балашову, император Александр призвал к себе одного из его подчиненных, де-Санглена, рекомендованного ему Армфельтом, выразил желание, чтобы он познакомился со Сперанским, а когда тот заметил, что это не легко, сказал ему, что ранее дал такое поручение Балашову и имеет уже от него донесение. Балашов выставил предлогом своего посещения желание посоветоваться, нельзя ли расширить ведомство Министерства Полиции, на что Сперанский ответил: «разве со временем можно будет сделать это», и будто бы прибавил: «вы знаете мнительный характер императора. Tout се qu'il fait, il le fait a demi. Il est trop faible pour regir et trop fort pour etre regi». (Все, что он ни делает, он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым). Возможно, что Балашов просто выдумал слова, приписанные им Сперанскому (как выдумали его агенты разговоры, будто бы происходившие в гостиной Кочубея); возможно, что они были сказаны и так, как Сперанский сообщил их Лубяновскому. Впрочем, не будучи ловким царедворцем, Сперанский не отличался необходимой в его положении осторожностью. Для раздражения же против государя у него было не мало оснований вследствие крайней нерешительности императора Александра в осуществлении одобренного им плана преобразований [13]. Государь продолжал с большой благосклонностью обращаться со Сперанским, оставлял его после доклада в своем кабинете, долго разговаривал с ним о вещах посторонних, ожидая от него сообщения о разговоре с ним Балашова и Армфельта, который министр полиции передал в совершенно извращенном виде, приписав инициативу плана об учреждении триумвирата Сперанскому. Давно, впрочем, было высказано еще такое предположение относительно этого свидания: М. П. Погодин, основываясь на сообщениях Санглена, обратил внимание на то, что едва ли такие опытные интриганы, как Балашов и Армфельт, решились бы явиться с столь рискованным предложением к Сперанскому. Как могли они быть уверены, что он их не выдаст? Поэтому Погодин задавался вопросом, не были ли они, так сказать, «застрахованы», т.е. не делали ли они этого предложения с ведома государя, чтобы испытать Сперанского. Но это предположение опровергается словами имп. Александра, сказанными де-Санглену, что Сперанскому незачем было вступать в связь с министром полиции (см. ниже).
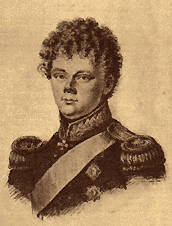
Пр. Евгений Вюртембергский
(С.-Обена).
|
Балашов после своего доноса государю на Сперанского хотел, чтобы Санглен с ним познакомился, и когда тот уклонился, дал это поручение своему племяннику Бологовскому, который был дружен с Магницким. Государю донесли, что Бологовский ездит от Балашова к Магницкому, а от того — к Сперанскому; так как Бологовский был в числе заговорщиков 1801 г., а Александру I сообщили, что он воскликнул пред убийством Павла «voila le tyran», то ему будто бы показалось подозрительными сношения между Сперанским, Магницким, Балашовым и Бологовским, который «способен на все». Но если верить де-Санглену, государь сказал ему: «Нужно употребить Бологовского, чтобы их всех уничтожить». Бологовский уговорил Магницкого содействовать сближению Балашова со Сперанским, и есть известие, будто бы Сперанский согласился даже поехать к Балашову; но затем передумал и послал записку, что не может быть у него, а Магницкий переслал ее министру полиции, у которого в руках таким образом очутилось доказательство, что Сперанский готов был с ним сблизиться.
Между тем продолжали поступать доносы на Сперанского. В начале 1812 г. шведский наследный принц Бернадот сообщил, что будто бы «священная особа императора находится в опасности» и что Наполеон готов с помощью крупного подкупа опять укрепить свое влияние в России. Как на главу заговора в Петербурге, указывали на Сперанского и его доверенного Магницкого. Армфельт распускал явную клевету на Сперанского, будто бы тот сказал ему: «было бы потерей капитала тратить время и силы на голову императора» [14]. В дело годились все средства: не даром Армфельт сказал де-Санглену: «Знаете, что Сперанский, виновен ли он или нет, должен быть принесен в жертву: это необходимо для того, чтобы привязать народ к главе государства, и ради войны, которая должна быть национальной» [15].
Балашов уверял имп. Александра, что Сперанский состоит «регентом у иллюминатов». Армфельт тоже распространял вести, что Сперанский участвует в их ложе. О сношениях Сперанского с ними доносил государю и Ростопчин [16]. Он же сообщил о связях Сперанского с мартинистами и иллюминатами Екатерине Павловне. В «Записке о мартинистах», представленной ей в 1811 году, он говорит, что «они все более или менее преданы Сперанскому, который, не придерживаясь в душе никакой секты, а может-быть, и никакой религии (?), пользуется их услугами для направления дел и держит их в зависимости от себя». Ростопчин обвинял мирных масонов-мартинистов в том, будто бы «они поставили себе целью произвести революцию, чтоб играть в ней видную роль», и уверял, что Наполеон «покровительствует им и когда-нибудь найдет сильную опору в этом обществе». Екатерина Павловна, вероятно, переслала эту записку императору Александру, так как 18 декабря 1811 г. он писал ей: «Ради Бога никогда по почте, если есть что-либо важное в ваших письмах, особенно ни одного слова о мартинистах». В числе слухов, передаваемых французским послом Лористоном после падения Сперанского, был и такой, что он глава секты иллюминатов и под предлогом преобразований хотел взволновать всю империю [17].
Ростопчин вообще был одним из главных врагов Сперанского. Государь однажды сказал Санглену: «Из донесения гр. Ростопчина о толках московских я вижу, что там ненавидят Сперанского, полагают, что он в учреждениях министерств и Совета хитро подкопался под самодержавие... Здесь, в Петербурге, он пользуется общей ненавистью и везде в народе проявляется желание ниспровергнуть его учреждение. Следовательно, учреждение министерств есть ошибка [18]. Кажется, Сперанский не совсем понял Лагарпа». И государь дал де-Санглену рукопись Лагарпа для сравнения с учреждением министерств [19]. Император Александр, если верить де-Санглену, стал раскаиваться и в других своих государственных преобразованиях: «Сперанский, — будто бы сказал он, — вовлек меня в глупость. Зачем я согласился на Государственный Совет и на титул государственного секретаря? Я как будто отделил себя от государства. Это глупо. И в плане Лагарповом того не было». Быть-может, в связи с этим Сперанский в пермском письме доказывает неосновательность обвинения его в том, что преобразованием Государственного Совета он желал ограничить самодержавие.
В числе трех основных обвинений, выдвинутых против Сперанского государем в последнее свидание с ним, было: 1) что «финансовыми делами» он «старался расстроить государство», и 2) «привести налогами в ненависть правительство». По недостатку места я не могу говорить подробно о влиянии Сперанского в этой области, но все же необходимо сказать несколько слов об этом предмете.
Нужно прежде всего заметить, что план финансов, составленный Сперанским по поручению государя и внесенный в преобразованный Государственный Совет в первое же его заседание 1 января 1810 г., был выработан им сообща с проф. Балугьянским, Н. С. Мордвиновым, Кочубеем, Кампенгаузеном и товарищем министра финансов Гурьевым, который сделан был затем министром финансов. План этот был принят Государственным Советом и утвержден государем. Положение финансов было крайне тяжелое: по смете на 1810 г. предполагалось доходов 105 млн. руб., расходов — 225 млн., следовательно, предстоял дефицит в 120 млн. [20]; в обращении было 577 млн. руб. ассигнаций, курс которых быстро падал (в 1810 г. до 31, в 1811 г. до 25 коп. сер. за рубль ассигн.) [21], и, кроме того, было 100 милл. руб. иностранного долга. Приходилось или продолжать выпуск и без того обесцененных ассигнаций, или увеличить налоги [22]. Сперанский стоял за последнее, причем мог руководствоваться и той мыслью, что в этом случае будет скорее почувствована необходимость общественного контроля над финансовым ведением дел. Все находящиеся в обращении ассигнации признаны были государственным долгом.

Вел. кн. Екатерина Павловна
(миниат. Дюбуа).
|
В мае 1810 г. был опубликован манифест об открытии внутреннего займа не более 100 млн. руб. асс., при чем объявлена была продажа некоторой части государственных имуществ, но эта последняя операция совершенно не удалась. В виду предстоящей войны с Наполеоном произведенное уже повышение налогов оказалось недостаточным, и потому манифестом 11 февраля 1812 г. подушная подать была «временно» повышена еще на один рубль, оброчный сбор с казенных крестьян увеличен на два рубля с души, а также и сбор с купеческих капиталов на 3% [23]. Повышены некоторые пошлины, наконец, учрежден временный сбор с помещичьих доходов по добровольному их объявлению: низший сбор начинался с доходов в 500 руб. и равнялся 1%, высший же составлял с 18.000 и более рублей — 10%. Налог на дворян вызвал в их среде великое негодование [24].
В пермском письме Сперанский говорит, что ответственность за повышение налогов пала на него одного не только в 1810, но и в 1811 году, когда «министр финансов предлагал налоги, а Совет отвергал их, яко не благовременные». Наконец «настал 1812 г., недостаток (дефицит) весьма важный и, сверх того, близкая война. Министр финансов представил систему налогов, чрезмерно крутую и тягостную (большая часть их, — заметил Сперанский, — и теперь еще существует). Часть их принята, другая — заменена налогами легчайшими. Сие смягчение и сии перемены, умножив раздражение, послужили после министру финансов и обширному кругу друзей его весьма выгодным предлогом отречься от всех мер нового положения, сложить с себя ответственность и, по примеру 1810 года, но уже с большей силой, на меня одного обратить все неудовольствия. Если бы в сие время можно было напечатать все представления сего министра, тогда все нарекания с меня обратились бы на него; но его бумаги лежали спокойно в делах Совета, а манифест с примечаниями, толкованиями, московскими вестями и ложными страхами ходил по рукам».
Во французской оправдательной записке, рассказав о предложении ему «двух лиц» (т.е. Армфельта и Балашова) составить триумвират, Сперанский непосредственно вслед за тем продолжает: «комитет устроился» [25]; он надеялся найти средства упрочить себя в финансовых операциях и предложил потом создать 200 млн. рублей одним почерком пера без всяких новых налогов и пошлин. «Для успеха этой чудотворной операции ставили только одно довольно тяжелое условие»: лишить Государственный Совет права рассматривать финансовые дела и сосредоточить их все в этом анонимном комитете. Сперанский говорит, что новый план финансов был известен ему перед ссылкой, но тогда он не верил, чтобы его осмелились представить, не думал, чтобы государь мог отнестись к нему серьезно [26]. Но «дело было в феврале 1812 г. Только что появился манифест о налогах. В Москве и Петербурге поднялся большой шум... Настороже всех этих слухов был один из членов секретного комитета» (очевидно, Армфельт). «Трудно ли было преувеличить их и представить недовольство нескольких помещиков, как общий и громкий крик! Несколько личностей, прибывших из Москвы» (вероятно, намек на Ростопчина), «чудесно помогли этому внушению». Стали кричать, что не время раздражать всех, особенно дворянство, когда предстоит такая опасная война; не время думать об уплате воображаемых долгов и подрывать значение ассигнаций. Эти мнения в преувеличенном и прикрашенном виде доходили до императора; дело было представлено так ловко, что, казалось, они шли со всех сторон. В этой же оправдательной записке Сперанский замечает: «Не следует ли еще удивляться, что государь так долго один поддерживал своего секретаря против всех?» Император Александр велел обсудить новый план финансов в Государственном Совете, который и отверг его, а в это время, по словам Сперанского, кибитка мчала его в ссылку.
В виду обвинений Сперанского в чрезмерной преданности французской системе (т.е. союзу с Францией), доходившей будто бы до пожертвования интересами России и даже до измены, любопытно отметить одну черту тарифной системы того времени. «Положением о нейтральной торговле на 1811 г.» [27] некоторые продукты потребления: вино, сахарный песок и др., были обложены очень высокой пошлиной (напр., кофе около 50%), а бумажные изделия, кружева, ленты, обои, обувь, полотна, фаянсовая и хрустальная посуда, сукно, чай, многие шелковые и шерстяные ткани, шляпы, экипажи и проч. запрещены к привозу [28]. Это вызвало негодование Наполеона. Новые правила о навигации в русских портах были составлены так, что корабли под нейтральным флагом (в большинстве случаев, с английскими товарами) могли иметь доступ в русские гавани, а привоз французских предметов роскоши (привозимых сухим путем) был воспрещен. Сам Сперанский в пермском письме указывает на несогласимое «противоречие»: нельзя было «быть преданным Франции» (в чем его обвиняли) «и в то же время лишить ее всей торговли в России введением нового тарифа».
В записке Сперанского о вероятности войны с Францией (в конце 1811 г.), он говорит, что Наполеон назвал наши новые правила о торговле мерой враждебной (une mesure evidemment hostile) [29], но автор записки полагает, что ни из-за тарифа, ни из-за захвата Наполеоном Ольденбургского герцогства воевать было бы нежелательно. В пермском письме Сперанский утверждает, что, зная его работы, государь не мог сомневаться в его «политических правилах», т.е. подозревать его в измене России в интересах Франции, о чем кричали его враги: «Никто, может-быть... столько не содействовал, чтобы заранее осветить истинное намерение Франции, как я». Сперанский ссылался и на то, что при отправлении в Париж графа Нессельроде с финансовым поручением относительно займа, он посоветовал открыть с ним переписку, которая впоследствии сделалась одним из источников вернейших и полезнейших» [30].
В продолжительном разговоре со Сперанским 31 августа 1821 г. император представил «началом всему о причинах его ссылки де-Санглена» и сказал, что ему донесли о сношениях Сперанского с французским послом Лористоном и датским посланником Блумом.
Де-Санглен, правитель особенной канцелярии министра полиции, соответствовавшей бывшему потом III Отделению собственной Его Величества канцелярии, который внушал, по словам бар. Корфа, такое «омерзение» своими «обязанностями, что, как ни страшен, как ни опасен он мог быть для каждого, очень немногие» кланялись ему и даже говорили с ним, все взваливает, наоборот, на императора Александра. Нужно во всяком случае не упускать из виду, что автор наиболее подробных и красочных воспоминаний о падении Сперанского — лицо, более чем сомнительное в нравственном отношении, и потому естественно является вопрос, насколько можно полагаться на его показания в том отношении, что он желает представить главной пружиной всей интриги против Сперанского самого императора Александра. Де-Санглен ведь не скрывает, что был в постоянных сношениях с Армфельтом, который и обратил на него внимание императора Александра, и с дю-Вернэгом (второстепенным агентом Людовика XVIII, действовавшим при нашем дворе против Наполеона и в пользу Бурбонов), который еще в декабре 1811 г. говорил: «Два врага России падут и вместе с ними и Наполеон; 1812 год будет памятным годом в летописях России». Одним из этих врагов России тут считался Сперанский. Армфельт и Вернэг вместе посещали Санглена. Помимо весьма возможной неискренности Санглена в его воспоминаниях, кое-что он мог перепутать и потому, что писал их в старости. Окруженный личностями вроде Балашова, Армфельта и Санглена и другими интриганами, Александр говорил де-Санглену: «Я решительно никому не верю», и мало кого уважал, а когда по поводу жалоб государя на корыстолюбие Балашова и других Санглен заметил: «Я бы сменил их», Александр отвечал: «Разве новые лучше будут? Эти уже сыты, а новые за тем же все пойдут». Относительно Сперанского Александр I должен был признать, что он не интриган, никому не делал зла, но тут уже, кроме влияния горячо любимой сестры и внушенного ему убеждения, что вся Россия ненавидит Сперанского, по-видимому, сыграли роль и инсинуации о том, что он иллюминат, что государю грозит опасность, а самое главное, что Сперанский дурно отзывался лично о нем. И вот, имп. Александр, окруженный интриганами, по-видимому, и сам стал интриговать, а потому иногда защищал пользу интриги. «Интриганы в государстве, — сказал он Санглену, — так же полезны, как и честные люди, а иногда первые полезнее последних». Если он действительно сказал это, то, конечно, это было великое нравственное падение [31]. Не пожелав избрать путь, предложенный ему Сперанским — ввести конституционный строй, который должен был бы уничтожить или, по крайней мере, ослабить влияние придворной камарильи и при искреннем отношении государя к делу народной свободы подорвал бы гнусные влияния его окружающих, Александр запутался и заразился сам в этой гнилой среде.
Как бы то ни было, 11 марта 1812 г. Санглен был призван к государю. «Кончено! — сказал он, — и, как это мне ни больно, со Сперанским расстаться должен [32]. Я уже поручил это Балашову, но я ему не верю и потому велел ему взять вас с собою. Вы мне расскажете все подробности отправления». Далее государь сообщил ему, что Сперанский «имел дерзость, описав все воинственные таланты Наполеона, советовать» ему собрать государственную думу, «предоставить ей вести войну, а себя отстранить. Что же я такое? Нуль! — продолжал государь. — Из этого я вижу, что он подкапывался под самодержавие, которое я обязан вполне передать наследникам моим». Последние слова прямо заимствованы из записки Карамзина.

Георг Ольденбургский
(С.-Обена).
|
12 марта Сперанский имел доклад по делам Государственного Совета у государя, который ничего не сказал о предстоящей ему ссылке. 16 был призван в Зимний дворец профессор дерптского университета Паррот, проникнутый самой пылкой, несколько сентиментальной любовью к Александру Павловичу и пользовавшийся настолько его доверием, что решался в письмах к нему затрагивать даже личную жизнь государя, правда, потому, что тот сам ее касался в беседах с ним [33]. В том волнении, которое он испытывал перед ссылкой Сперанского, он пожелал посоветоваться со своим ученым другом. «Император, — говорит он в позднейшем письме к Николаю I, — описал мне неблагодарность Сперанского с гневом, которого я у него никогда не видел, и с чувством, которое вызывало у него слезы. Изложив представленные ему доказательства его измены, он сказал мне: «Я решился завтра же расстрелять его и, желая знать ваше мнение по поводу этого, пригласил вас к себе». Паррот обещал ответить завтра, так как считал необходимым подумать прежде, чем дать разумный совет. Судя по тому волнению, с которым говорил император Александр с Парротом, трудно предполагать, что все это было сказано им не серьезно [34], скорее можно думать, что нашлись люди, подсказывавшие ему такую трагическую развязку [35]. Судя по рассказу Санглена, государем было уже несколькими днями ранее принято решение о ссылке Сперанского, но нет ничего невероятного в том, что враги государственного секретаря договаривались в своих советах даже и до смертной казни. Тут прежде всего приходит в голову имя Ростопчина, находившегося в то время в Петербурге и способного, как показало дело Верещагина, на подобные произвольные и возмутительные меры [36]. Как бы то ни было, ответ Паррота был написан только 17 марта, в 11 часов вечера, и не мог, следовательно, повлиять на решение судьбы Сперанского, но он любопытен по некоторым указаниям. Паррот полагал, что сообщенное ему говорит сильно против Сперанского, но все же он выражал надежду, что государь не думает более о его расстрелянии и советовал удалить его из Петербурга и установить за ним такой надзор, чтобы он не мог иметь сношений с неприятелем [37]. А после войны следует назначить суд над ним из самых неподкупных людей. Паррот сомневался в том, чтобы Сперанский был настолько виновен, как это кажется, указывал на то, что в числе доносчиков на него находится такой низкий человек, как Розенкампф, который хотел вызвать падение своего благодетеля Новосильцева и которого Паррот советовал как можно скорее удалить от дел. Далее он старался подорвать доверие к Армфельту, которого сам никогда не видал, но о котором судил потому, что Розенкампф являлся одним из его главных орудий. Наконец он говорит, что мечтает о существе, которое могло бы сделать для государя то, что сделала бы императрица Елизавета. «Принц Ольденбургский, — продолжает он, — которого вы ставите во главу совета (que vous mettez a la fete du conseil),... не может быть этим существом даже при помощи талантов великой княгини [38]... Вы напрасно возлагаете надежду на плодотворность усердия принца и деятельности министров».
В беседе с Парротом, как видно шла речь о предоставлении значительной роли принцу Ольденбургскому, но затем государь, быть-может, отчасти под влиянием письма своего ученого друга, отказался от этого предположения.
Паррот называет Розенкампфа в числе доносчиков на Сперанского. Это доказывает, что известная его записка против государственного секретаря, пущенная в обращение (уже после его ссылки) Армфельтом и потому некоторыми ему приписанная, была в первоначальном виде известна государю еще до ссылки Сперанского. Черновик ее сохранился в бумагах Армфельта с его поправками, и, очевидно, он представил эту записку императору Александру. Розенкампф прежде всего обвиняет в ней Сперанского «в намерении разрушить существующий порядок вещей и произвести всеобщее потрясение», в составлении плана судебного Сената, в слишком медленном составлении гражданского уложения, в том, что он побудил принять систему финансов, которая уничтожила общественное доверие и лишила правительство средств для необходимых расходов, унизил дворянство, стеснил промышленность и чрезмерно увеличил бремя земледельцев. В конце-концов, он даже сравнивает его по характеру с Кромвелем. Несмотря на бездоказательность многих выставленных обвинений, в двух самых существенных укорах, высказанных Александром I Сперанскому, чувствуется отзвук записки Розенкампфа.
17 марта Сперанского пригласили к 8 часам вечера к государю. Главнейшие обвинения, которые Александр I предъявил ему при прощании, состояли в том, что он старался «финансовыми делами расстроить государство», возвышением налогов возбудить ненависть против правительства, дурно отзывался о государе, предлагал Балашову и Армфельту приезжать к нему перед каждым докладом и уже после совместного обсуждения дел доводить их до сведения государя. Горячий протест против последней клеветы был несколько подорван тем, что государь показал Сперанскому его записку Магницкому о невозможности приехать к Балашову, и во всяком случае Александр I обвинял своего государственного секретаря в недонесении ему о предложениях Балашова и Армфельта. Возможно, что он упрекал его и в склонности к «французской системе», и в стремлении подорвать самодержавие. Государь сказал Сперанскому, что у него сильные враги, что в другое время он употребил бы два года на исследование и проверку взведенных на него обвинений, но теперешние обстоятельства этого не позволяют.
Возвратившись домой после более чем двухчасовой аудиенции, найдя у себя Балашова и Санглена, Сперанский пригласил в свой кабинет министра полиции, который приказал своему подчиненному остаться в другой комнате; но тот чрез открываемые иногда прислугой двери видел, что в кабинете жгли бумаги. Затем кабинет был запечатан, но Сперанский вспомнил, что забыл взять оттуда еще один портфель; Балашов велел для этого распечатать двери и затем вновь запечатал их. Кроме того, Сперанский написал письмо императору Александру, вложил в три пакета секретные бумаги и отдал Балашову для доставления государю.
На другой день, 18 марта, когда явившийся к императору Санглен сообщил ему, что, долго ожидая с Балашовым возвращения Сперанского, высказал предположение, как бы тот не оправдался и в ссылку не отправили бы их обоих, государь рассмеялся и заметил: «Это едва ли не было лучше для меня, но в отношении к государству лучше было отправить Сперанского. Все-таки нужно было его выслать. Доказательством тому — что весь Петербург обрадовался его ссылке... Люди — мерзавцы; те, которые вчера ловили улыбку Сперанского, ныне поздравляют меня с отправлением его... Подлецы — вот кто окружает нас, несчастных государей» [39].. При рассказе о распечатании дверей кабинета государь в негодовании на Балашова воскликнул: «Какой бездельник! Петр I отрубил бы ему голову своеручно... Мне второй экземпляр Палена не нужен». Воспоминание о Палене вновь подтверждает, что Александр думал о возможности заговора против него и предполагал, что в нем мог принять участие и Балашов [40]. Когда Санглен передал последние слова Сперанского с пожеланием счастья государю и отечеству, император сказал: «Верю... в нем нет злобы, он более способен на добро, религиозен, я никогда не замечал в нем пристрастия, еще менее вражды к кому-либо» [41].
Одновременно с отправкой Сперанского в Нижний были высланы Магницкий — в Вологду и Бологовский — в смоленскую деревню, а флигель-адъютант и правитель канцелярии военного министра Барклая-де-Толли А. В. Воейков переведен был на службу в армию [42]. Император Александр был, по-видимому, все же огорчен утратой Сперанского. На другой день после его высылки, в беседе с де-Сангленом, он сказал: «Вы не можете себе представить, какой был вчера тяжкий день для меня! Я приблизил к себе Сперанского,... имел к нему полную доверенность и вынужден был его сослать. Я плакал». И действительно, слеза навернулась на его глазах. В тот же день А. Н. Голицын застал государя ходящим по комнате с весьма мрачным видом. На высказанные предположения, что он нездоров, император отвечал: «Если б у тебя отсекли руку, ты верно кричал бы и жаловался, что тебе больно: у меня в прошлую ночь отняли Сперанского, а он был моей правой рукой!» Во время этой беседы, довольно продолжительной, слезы часто навертывались на глазах государя. Приказав Голицыну разобрать с одним статс-секретарем бумаги Сперанского, он заметил: «Но в них ничего не найдется — он не изменник».
Однако, понимая, что все же расправа без суда и судебного следствия может вызвать неодобрение со стороны некоторых лиц [43], государь иногда указывал на ее причины и говорил об этом деле в ином тоне. 19 марта министру юстиции И. И. Дмитриеву он рассказал, что Сперанский за две комнаты от кабинета позволил себе опорочивать политические мнения нашего правления, ход внутренних дел и предсказывал падение империи. «Этого мало, он простер наглость свою даже до того, что захотел участвовать в государственных тайнах... Вот письмо его и собственное признание», добавил государь, подавая его Дмитриеву [44]. Он будто бы также назвал всю эту историю «пакостной». Нужно, однако же, помнить, что Дмитриев был друг Карамзина и человек близкий Балашову, и потому возможно, что он усилил неблагоприятный отзыв государя о Сперанском.

Н. М. Карамзин.
|
В тот же день имел аудиенцию Нессельроде, дружеские чувства которого к Сперанскому были известны императору Александру, и когда он выразил глубокое сожаление, что государь лишил себя слуги самого преданного, верного и ревностного, император отвечал: «Ты прав, но именно теперешние только обстоятельства и могли вынудить у меня эту жертву общественному мнению». В ответ на поздравление наследного принца шведского с раскрытием заговора, клонившегося к разрушению империи, император (в письме от 24 мая 1812 г.) «по поводу открытия» им «окружавших» его «подпольных происков» говорит: «У меня более подозрений, чем неоспоримых данных, но при нынешних обстоятельствах они были достаточны для меня, чтобы ни на мгновение не дать мне колебаться и удалить причастных к делу лиц». Несколько месяцев после ссылки Сперанского государь сказал Новосильцеву: «Вы думаете, что он изменник? — вовсе нет; он в сущности виновен только относительно меня одного, — виновен тем, что отплатил за мое доверие и дружбу самой черной, самой гнусной неблагодарностью»; однако государь прибавил, что ему донесли о «случаях, которые заставляли предполагать» в Сперанском «самые зложелательные намерения». В 1819 году обвинения против него были, наконец, сняты при назначении его сибирским генерал-губернатором рескриптом, правда, в то время не опубликованным, где государь писал, что этим назначением хотел дать ему возможность «доказать явно, сколь враги несправедливо оклеветали» его, и подавал ему надежду, что своими заслугами он даст государю «явную причину приблизить» его к себе. В следующем году Александр Павлович сказал И. В. Васильчикову, что никогда не верил во взведенное на Сперанского обвинение в измене и винит его только в том, что он не имел к нему полной доверенности.
Выше было упомянуто, что пред отправкой из Петербурга Сперанский вложил в три пакета некоторые бумаги и просил Балашова передать их вместе с его письмом государю. В письме Сперанского было сказано: «Между бумагами... Ваше Императорское Величество изволите найти расшифрованные перлюстрации. Они мне были доставляемы по временам Беком. В сем проступке сознаю себя виновным и, не ища оправданий, предаюсь милосердию Вашего Величества» [45]. Это-то письмо было показано государем 19 марта министру юстиции Дмитриеву; эти же строки были приведены императором Александром в его письме от 19 апреля из Вильны гр. Н. И. Салтыкову. Дмитриев, очевидно, не мало кричал потом об «измене» Сперанского и должен был сильно содействовать распространению враждебных для него слухов. Дело о секретных депешах требует объяснения.
В иностранной коллегии (а затем и в Министерстве Иностранных Дел) делами важнейших заграничных миссий заведывал Жерве, имевший под своим начальством экспедицию дешифровки депеш, в котором главным лицом был занимавшийся ей статский советник Бек. Секретные дипломатические донесения гр. Нессельроде из Парижа направлялись помимо канцлера к Сперанскому, который и докладывал их государю; точно так же по приказанию государя направлялись к Сперанскому с той же целью сообщения в частных письмах к Жерве находившегося при нашей венской миссии итальянца Маллия. Не ограничиваясь этим и уже не имея на то полномочий, Жерве, без ведома начальства, тайно сообщал Сперанскому все, что поступало наиболее важного и любопытного по нашим сношениям с западной Европой. Таким образом император Александр вел неприязненную Наполеону переписку с второстепенными в дипломатической иерархии лицами помимо канцлера, а Сперанский был посвящен в высшие тайны. Для того, чтобы канцлер, гр. Н. П. Румянцев, не мог этого узнать, государь вычеркивал из представленных ему через Сперанского дешифровок все, что могло бы раскрыть тайные сношения; с этими исключениями они представлялись канцлеру, и тот вновь докладывал государю в неполном виде уже известное ему вполне.
25 марта Бек был арестован и заключен в петербургскую крепость. На другой день Жерве чрез Нессельроде обратился к государю с письмом, в котором принимал вину на себя. Из этого письма пришлось опять-таки сделать исключение, и затем государь приказал вновь подать его себе, чтобы по-прежнему оставить канцлера в неизвестности. Нессельроде он сказал, что не видит во всем этом ничего преступного и потому велит прекратить дело и выпустить Бека. Однако он был оставлен в крепости и, больной и пораженный незаслуженным несчастьем, впадал даже во временное помешательство. Только 27 апреля секретный комитет, учрежденный 13 января 1807 г., которому поручено было рассмотрение этого дела, предложил Беку первые вопросы. Когда его объяснения были представлены государю, он в письме к Салтыкову дал неискренний ответ: «О Беке должен сказать, что объяснения его совсем не верны, что бы мне легко было доказать бумагами; но оные остались в Петербурге». Государь считал не бесполезным выслушать объяснения Жерве, а Бека, взяв с него «строгую подписку, что он будет жить смирно и не вмешиваться ни в какие сплетни, можно выпустить, предписав полиции иметь за поведением его надзор». Дело кончилось тем, что Жерве был исключен из Министерства Иностранных Дел, а потом снова принят на службу, но уже по ведомству Министерства Финансов, а Бек был оставлен при прежней своей должности [46]. Вот на какие хитрости пускался император Александр, чтобы, оставляя во главе нашего дипломатического ведомства гр. Н. П. Румянцева, защитника союза с Наполеоном, легче обмануть императора французов. Вот отчасти почему он мог думать, что «интриганы в государстве так же полезны, как и честные люди, а иногда первые полезнее последних». С тем, как эти интриги отражаются на отдельных личностях, он, очевидно, не считался; поэтому-то так кстати пришлось ему то, что Сперанский самовольно, но без ущерба для интересов государства, расширил доставление себе сведений из Министерства Иностранных Дел. В пермском письме он говорит: «Это обстоятельство... чрезмерно обрадовало моих неприятелей, дав им случай всю громаду их лжи прикрыть некоторой истиной».

И. И. Дмитриев (Рейхель).
|
Не будем повторять всех тех толков об измене Сперанского, которые возбудили его падение, не будем говорить о ликовании его врагов. Теперь видно, что эти, совершенно неосновательные, слухи об измене были сильно поддержаны, а может-быть, даже в значительной степени вызваны тем письмом Сперанского, которое государь показал Дмитриеву; не мудрено, что самому императору Александру пришлось потом не раз и настоятельно объяснять, что Сперанский не изменник.
Отметим только, что французский посол Лористон, говоря в депеше 13 апреля 1812 г. о падении Сперанского, прибавляет: «Некоторые думают, что великая княгиня Екатерина не чужда этому событию». Гр. Ростопчин в своих (написанных по-французски) мемуарах о 1812 годе пытается уверять, что он, вопреки слухам, не принимал участия в падении Сперанского, и вместе с тем говорит, что его «приписывали великой княгине Екатерине, принцессе Ольденбургской» [47]. Екатерина Павловна, конечно, сыграла не малую роль в падении Сперанского, но мы видели, что дело это слишком сложно, чтобы видеть в ней одной причину его ссылки; однако письмо Паррота показывает, что именно в это время выдвигали принца Ольденбургского на выдающийся пост как бы в замену ссылаемого государственного секретаря. Сперанский сознавал, что весьма значительное влияние на его удаление имели его неосторожные отзывы о «правительстве». Относительно этого в пермском письме он говорит:
«Если доносители разумеют под именем правительства те элементы, из которых оно слагается, т.е. разные установления, то правда, что я не скрывался и в последнее время с горестью многим повторял, что они, состоя из старых и новых, весьма худы и несообразны. Но сие было мнение всех людей благомыслящих и, смею сказать, и мнение Вашего Величества; скрывать же сего я не имел никакой нужды. — Если разумеют под именем правительства людей, его составляющих, то и в сем я также признаюсь. Горесть видеть все искаженным, все перетолкованным, все труды покрытыми самой едкой желчью и, при покорности намерениям вашим на словах, видеть совершенную противоположность им на деле, горесть, снедавшая мое сердце и часто доводившая до отчаяния иметь при сих элементах и людях какой-либо в делах успех, невзирая на все ваши желания, горесть сия часто, а особливо в последнее время, по случаю сенатских и финансовых споров, вырывалась у меня невольным образом из сердца. Но, Всемилостивейший Государь, измучен, действительно измучен множеством дел и ежедневно еще терзаем самыми жестокими укоризнами, мог ли я всегда быть равнодушным?»
Но Сперанский старался уверить государя, что он никогда не разумел при этом его лично. Несколько далее он говорит: «Отчего, спросят, доходили от разных лиц одни вести? Оттого, что сии разные лица составляли одно тело, а душа сего тела был тот самый, кто всему казался и теперь кажется посторонним». Шильдер полагает, что эти слова указывают на самого императора Александра.
Санглен из всего хода дела, в котором он участвовал, пришел к тому же выводу [48]. Он считал двумя главными действующими лицами драмы государя и Армфельта. Армфельта и Балашова Сперанский называет в пермском письме по именам. Можно думать поэтому, что «душой» заговора против него он считал государя. Однако во французской оправдательной записке, написанной в третьем лице и, быть-может, назначенной для некоторого распространения, хотя бы позднее, он выражал даже некоторое удивление, что император так долго его отстаивал. Могло ли также «казаться посторонним» то лицо, по воле которого Сперанский был сослан? Поэтому возможно и другое предположение о значении его слов: не разумел ли он тут принца Ольденбургского, т.е. в сущности Екатерину Павловну, ненависть которой к нему была ему хорошо известна. Не даром столь близкий к ней Ростопчин очутился в Петербурге во время ссылки Сперанского; незадолго до нее приезжал к государю и сам принц. Впрочем, как понимать приведенные слова его — вопрос второстепенный, а вот в чем видел Сперанский основную причину своей ссылки. В письме к государю от 23 мая из Нижнего-Новгорода, написанном в тот же день, когда его туда привезли, высказывая заботу о том, чтобы рукопись его «Плана государственного образования» была сохранена, Сперанский говорит: «Этот труд, государь, — первый и единственный источник всего, что случилось со мной». Тут он очень ясно говорит, что пал жертвой попытки ограничить самодержавие, но в то же время выражает надежду, что император Александр не окончательно покинул предположение об основных реформах и рано или поздно возвратится к ним; он пытался внушить эту веру и государю.
Вопреки мнению проф. Середонина, что «Сперанский, как деятель, не оправдал доверия государя», я думаю наоборот, что император Александр не оправдал доверия, т.е. надежд на него, Сперанского: правда, уроки государственного секретаря не пропали для императора совершенно бесследно, и в его решении сыграть роль конституционного монарха в Царстве Польском отчасти могло сказаться влияние на него Сперанского, но и там либеральное настроение государя быстро охладело и привело его к мерам произвольным и противоречащим конституции; финляндский сейм после 1809 г. не был созван ни разу, выработка, по приказанию государя, нового конституционного проекта Новосильцевым не имела никаких последствий.
В плане государственных преобразований Сперанского не трудно с современной точки зрения найти немало недостатков, но хотя и никак нельзя согласиться с мнением С. Н. Южакова и М. П. Погодина [49], считавших Сперанского человеком гениальным, все же нельзя не признать за ним очень большого таланта. По моему мнению, во всей первой половине XIX века в России были в сущности только два выдающихся своими талантами человека среди государственных деятелей в официальной сфере: Сперанский и Киселев. Неудача политической реформы по плану Сперанского при Александре I и неудача ограничения крепостного права по плану Киселева в значительной степени объясняются тем, что обоим им пришлось опираться на столь шаткую опору, как воля самодержца. Это поняли декабристы, но им, для осуществления своих замыслов, приходилось возлагать надежды лишь на войско и военные поселения, — время для сознательной поддержки со стороны народа тогда еще не наступило. Сперанский, конечно, не был героем и в период своего наибольшего влияния, но все же он не оказался и настолько гибким человеком, чтобы скрывать свое неудовольствие, когда увидел, что на осуществление преобразовательных планов мало надежды, а это ускорило его падение.
В. Семевский.
[1] С. В. Рождественский «Материалы для истории учебных реформ в России XVIII — XIX веках». «Записки Ист.-Фил. Фак. СПБ. Университета», ч. 96, вып. I, 1910 г., стр. 374 — 379.
[2] Гр. Ростопчин в записке, поданной государю в Петербурге 20 марта 1812 г. (т. е. через восемь дней после ссылки Сперанского), также советовал изменить правила об экзаменах на чины.
[3] См. «Историческое Обозрение», т. X, 29 — 30.
[4] Ср. «Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императора Александра и Наполеона», изд. великого князя Николая Михайловича, т. VI, 1908, стр. 55.
[5] Шильдер, II, 298.
[6] В одном из них (в ноябре 1811 г.) он выражается таким образом: «Увы, я не могу воспользоваться моими прежними правами (дело идет о ваших ногах, понимаете) (курсив подлинника) на самые нежные поцелуи в вашей спальне в Твери". Великий князь Николай Михайлович, «Переписка императора Александра I с сестрой великой княгиней Екатериной Павловной», Спб., 1910, стр. 59, ср. 3, 7.
[7] Мария Федоровна не симпатизировала либеральным стремлениям государя, и около нее группировались лица, им не сочувствующие. «Memoires du pr. Adame Czartoryski», P. 1887, I, 316. Она была противницей и союза с Наполеоном и громко фрондировала в этом отношении. Вел. князь Николай Михайлович, «Импер. Елизавета Алексеевна», II, 256, ср. «Русск. Стар.», 1899 г., № 4.
[8] Екатерина Павловна, рассказывает в своих воспоминаниях Лубяновский, «любила... говорить обо всем и обо всех из бывших тогда на сцене лиц, начиная с самой высшей ступени..., а заключения се всегда были кратки, решительны и часто нещадны». Позднее, летом 1814 г., не поладив в Лондоне с регентом и первым министром, она повлияла на находившегося там в это время императора Александра во враждебном им смысле, и это отразилось даже на дипломатических отношениях России и Англии.
[9] По словам лица, к нему близкого, он раздражил великую княгиню тем, что однажды отказался исполнить ее просьбу (противоречащую указу 6 августа 1809 г.) о награждении чином коллежского асессора Бушмана, секретаря и библиотекаря принца Георгия. Ростопчин раздул ее неудовольствие, сказав ей: «Как смеет этот дрянной попович отказывать сестре своего государя, когда должен был почитать за милость, что она обратилась к его посредничеству». Вероятно, она была недовольна и тем, что, когда государь желал в начале 1810 г. назначить министром народного просвещения Карамзина, то Сперанский отговорил его от этого, предложив сделать его сначала куратором московского университета, от чего Карамзин отказался.
[10] Не оттуда ли пошло в ход крылатое слово: «дерет этот попович кожу с народа; сгубит он государство».
[11] 3 марта 1811 г. он писал Дмитриеву: «С великим любопытством читал я на сих днях проект законов; на иное сделал бы свое примечание, но писать об этом неловко. Дай Бог всего доброго нашему отечеству». Я полагаю, что тут речь идет о плане государственных преобразований, французский перевод которого, сообщенный ее мужу, вероятно, дала Карамзину на прочтение великая княгиня.
[12] Абов, «Густав-Мориц Армфельт», Спб., 1901 г.
[13] Французский посланник Лористон в донесении от 13 апр. 1812 г. передает слух, что «главная вина Сперанского состояла в нескромных отзывах об императоре, которого он осуждал за недостаток характера и энергии, заставлявший его колебаться в проведении мер, им самим одобренных». «Русский Архив», 1882 г., № 4, стр. 174.
[14] Было перехвачено письмо, в котором Сперанский, уведомляя приятеля об отъезде государя с целью осмотра возводимых на западной границе укреплений, употребил выражение: «Наш Вобан, наш Воблан» (veau blanc) — насмешливое прозвище, навеянное повестью Вольтера: «Белый бык».
[15] Оленин, после высылки Сперанского, передавал, что он называл государя «ребенком, которого необходимо водить на помочах».
[16] Наконец в записке полковника Полева, найденной в кабинете Александра I после его смерти, называются имена Сперанского, Феслера, Магницкого, Злобина и др., как членов ложи «иллюминатов» (Госуд. Арх.); Магницкий же в доносе императору Николаю говорит, что Феслер «в саду комиссии законов» учредил ложу «Полярной звезды», в которой, кроме того, участвовали Сперанский, Пезаровиус, Злобин, Розенкампф, сам Магницкий и др., и сообщает некоторые подробности о беседах о религии Сперанского с Феслером. «Русск. Стар.», 1899 г., № 2, стр. 297 — 298.
[17] «Русск. Арх.», 1882 г., № 4, стр. 173. Странно, что этой депеши Лористона от 13 апреля нет в издании великого князя Николая Михайловича «Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императора Александра и Наполеона. 1808 — 1812 г.», т. VI, 1908. Об отношениях Сперанского к масонам он сам, давая в 1822 г. подписку о непринадлежности к тайным обществам, заявил: «В 1810 и 1811 году повелено было рассмотреть масонские дела особому секретному комитету, в коем и я находился. Дабы иметь о делах сих некоторое понятие, я вошел с ведома правительства в масонские обряды, для чего составлена была здесь частная и домашняя ложа из малого числа лиц по системе и под председательством доктора Феслера, в коей был два раза. После сего как в сей, так и ни в какой другой ложе, ни в тайном обществе не бывал».
[18] Тут сказалось, вероятно, влияние записки Карамзина.
[19] По другому рассказу де-Санглена, более сомнительному, император будто бы даже убедился в «измене» Сперанского по сличении с его учреждениями плана Лагарпа и сказал: он «обрусил, запутал и испортил проект Лагарпа... он изменник».
[20] При пересмотре росписи в Государственном совете доход был доведен (с новыми налогами) до 209.291.316 руб., расходы же сокращены до 184.717.411 руб. «Сб. Ист. Общ.», т. 45, стр. 196, 201 ср. Мигулин, «Русск. госуд. кредит», I, 47. Но в действительности расходы на несколько десятков миллионов превысили доход.
[21] Шторх, «Материалы для истории госуд. денежн. знаков в России», Спб., 1868 г., стр. 58 (тут показаны средние годовые курсы).
[22] Но это было сделано в непосильном для народа размере. По манифесту 2 февраля 1810 г. подушная подать с крестьян казенных, удельных и помещичьих была повышена до 2 руб. асс. с души; казенные крестьяне были, сверх оброчной подати, временно обложены сбором в разных губерниях в 2 — 3 руб. с ревизской души; подать с мещан временно увеличена до 5 руб. асс. с души; сверх помещичьиих и удельных имений, сверх подушной подати, назначен сбор по 50 коп. с души (только на 1810 год); на подати с купеческих капиталов велено взимать по 1/2% на рубль; наложен особый сбор на крестьян, торгующих в столице; цена соли повышена с 40 коп. до 1 р. за пуд; гербовая бумага значительно повышена в цене и проч.
[23] 20 февраля 1812 г. повышена оброчная подать с мещан еще на 3 р. с души.
[24] Еще несколько ранее, в записи «О силе правительства», прочитанной императору Александру 3 декабря 1811 г., Сперанский писал: когда приступили к исправлению финансов, «сколько споров, сколько пререканий о том, чтоб в наполнение истинных государственных нужд удалить от доходов помещичьих 5 млн. рублей».
[25] Особый комитет для обозрения финансов из министра финансов Гурьева, Балашова, Армфельта и бар. Розенкампфа. Корф, «Жизнь гр. Сперанского», I, 248.
[26] Розенкампф предлагал все движимые и недвижимые имущества русских подданных подвергнуть на время продолжения войны общему запрещению, чтобы иметь их в готовности к обязательной, по мере требования правительства, ссуде казначейству, но Государственный Совет отверг этот план. Корф, I, 248 — 249.
[27] П. С. З. XXXI, № 24. 464. Оно затем ежегодно возобновлялось до издания нового тарифа в 1816 г.
[28] Лодыженский, «История русского таможенного тарифа», Спб., 1886 г., 164 — 168, 170 — 177.
[29] Он сказал даже нашему послу Куракину, что считает новый тариф равносильным с заключением мира с Англией.
[30] Нессельроде был в сношениях не только с Талейраном, но и с Коленкуром, который, отозванный в 1811 г., присоединился к тайной оппозиции Наполеону. «Дипломатич. сношения России и Франции», т. I, стр. CXVI; Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode, t. II, 69 — 71; Des russ. Rechskanzlers gr. Nesselrode Selbstbiographie. Deutsch v. Klevesahl. Berl.. 1866, S. 34 — 35.
[31] Напротив, в другом разговоре Санглен передает такие слова Александра I, показывающие, кроме того, его недоверие к доносу Балашова о предложении Сперанским триумвирата: «К чему было Сперанскому вступать в связь с министром полиции? Он был у меня в такой доверенности, до которой Балашову никогда не достигнуть, а может-быть, никому. Один — пошлый интриган, как я теперь вижу, другой — умен; но ум, как интрига, могут сделаться вредными».
[32] Нельзя не обратить внимание на то, что в конце февраля принц Георгий Ольденбургский был принят императором Александром (для чего приезжал из Твери) и немедленно возвратился туда. Великий князь Николай Михаилович, «Дипломатические сношения», VI, 234 (второй отдел этого тома). Любопытно также, что решение об удалении Сперанского было объявлено Санглену в знаменательный день 11 марта, день убиения Павла I. Это также наводит на мысль, что император Александр опасался заговора и не желал испытать участь отца. Позднее он, с одной стороны, боялся тайного общества, как видно из рассказа Ермолова одному из его членов, а с другой — не хотел свирепствовать против них, так как, по его словам И. В. Васильчикову, сам разделял в молодости их идеи.
[33] 15 октября 1810 г. он написал императору Александру письмо, где, обсудив политические и военные меры, которые следует принять в случае войны с Францией, и упомянув, что Наполеон будет стараться революционизировать Россию и поссорить его с подданными, предлагал государю при отправлении в армию объявить на время своего отсутствия регентшей пользующуюся общим уважением императрицу Елизавету, ум которой и правильность взглядов Паррот очень хвалил, прибавляя, что она не станет вспоминать о провинностях его пред ней как мужа. Александру делает честь, что и после этого письма он сохранил дружеские отношения к Парроту.
[34] Шильдер видит в этом разговоре только комедию, Шиман — «комедию, в которой была и правда и сознательная неправда». Нужно заметить, что в это время имп. Александр был вообще в нервном состоянии; так при разговоре с франц. послом Лористоном (об отношениях России к Франции), в конце марта месяца 1812 г., слезы катились у него по щекам.
[35] Быть-может, своим разговором государь хотел намекнуть Парроту, что мера, которую он примет относительно Сперанского, мягче того, что ему советуют некоторые.
[36] Назначенный 29 мая 1812 г. московским главнокомандующим, Ростопчин в письмах государю от 23 июля и 23 августа указывал на опасность пребывания Сперанского в Нижнем, куда тот был выслан. Мало того, он потребовал от нижегородского губернатора Руновского присылки Сперанского в Москву, но получил ответ, что он доставлен в Нижний по повелению государя, и потому без его воли не может исполнить это приказание. Вероятно, Ростопчин отдал бы Сперанского 2 сентября 1812 года на растерзание черни вместе с Верещагиным. Не даром еще 3 июня он писал нижегородскому вице-губернатору о ненависти народа к Сперанскому и о том, что некоторые, едущие на Нижегородскую ярмарку, намерены его убить. А. Я. Булгаков, знакомый Ростопчина, выражал в своем дневнике желание, чтобы Сперанского повесили.
[37] Выслать Сперанского советовал и Армфельт, прибавив, что эта мера «объединит общество в одном чувстве патриотизма».
[38] Лонгинов в письме к гр. С. Р. Воронцову упоминает об «известном нраве и надменности видов великой княгини». Принц Ольденбургский также мнил о себе, что он мог бы принести России много добра «в сфере более обширной и более видной» и обнаруживал притязания расширить отведенный ему круг деятельности, за что иногда получал щелчки даже от министров.
[39] Про Армфельта император однажды сказал Санглену: «Он хлопочет, прислуживается, чтобы урвать у меня на приданое побочной дочери своей». Еще в конце 1809 года государь выразился однажды так: «Благодарность на сем свете реже белого ворона: меня спроси, я про то знаю».
[40] Из разговоров с французским генералом Савари в 1807 г. императора Александра видно, что он считал возможным покушение на себя. «Сбор. Ист. Общ.», т. 83, стр. 60 — 61, 154. В числе слухов, ходивших о Сперанском после его падения, был и такой, что он являлся «орудием англичан, чтобы низвергнуть с трона государя, которого они считают слишком слабым и слишком склонным к французам». Депеша Лористона, «Русск. Арх.», 1882 г., № 4, стр. 173. Это не значит, конечно, что Сперанский мог думать о перевороте, но указывает на одну из инсинуаций против него.
[41] В своих записках Санглен выставляет себя до известной степени защитником пред императором Сперанского, а сейчас после ссылки он говорил о нем в совершенно ином тоне: Л. И. Голенищеву-Кутузову он сказал, что преступление Сперанского «измена, — все доказательства на то в руках государя».
[42] Относительно него Балашов распускал слухи, будто бы он сообщил карту с обозначением маршрута армии в Вильно Елиз. Мих. Хитрово для передачи французскому послу. Муж этой Хитрово был выслан (по подозрению в сношениях с французским послом Коленкуром) в декабре 1810 г., а не в связи с падением Сперанского, как утверждает де-Санглен.
[43] С этой точки зрения отнесся к ссылке Сперанского даже Михайловский-Данилевский в своем дневнике 1816 г.
[44] Объяснение этих слов см. ниже.
[45] Тут же находились и секретные письма Нессельроде из Парижа. См. Lettres et papiers du comte Nesselrode, P. t. III, 225-394.
[46] Дело это подробнее рассказано Шильдером в его известном сочинении «Император Александр I», т. III, 53 — 62, ср. 488, 493-496, 525 — 526.
[47] Военно-учебный Архив Главного Штаба, Отд. II, № 4525 (а) (8); в «Русской Старине» (1889 г., № 12, стр. 647) это место передано не верно. В подлиннике: «Sa chute (падение Сперанского) on 1'attribue a la G. D. С. Р. d. О».
[48] «Все актеры, — говорит он, — кроме царя, который был один деятелен и который один с Армфельтом направлял таинственно весь ход драмы, остались в дураках. Мы действовали, как телеграфы, нити которых были в руках императора. Из чего хлопотали? О том, что давно решено было, и чего они не знали и не догадались».
[49] Южаков, «М. М. Сперанский, его жизнь и общественная деятельность», Спб., 1892 г., стр. 36, 49, 52; статья Погодина в «Русском Архиве», 1871 г., стр. 1218, 1232, 1244.