|
М.Н. Загоскин «Рославлев, или русские в 1812 году»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА I
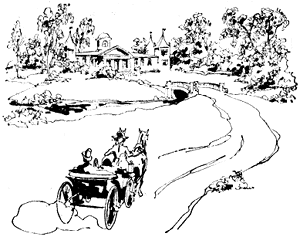 Двухэтажный дом Николая Степановича Ижорского, построенный по его плану, стоял на возвышенном месте, в конце обширного села, которое отделялось от деревни сестры его, Лидиной, небольшим лугом и узенькой речкою. Испещренный всеми возможными цветами китайской мостик, перегибаясь чрез речку, упирался в круглую готическую башню, которая служила заставою. Широкая липовая аллея шла от ворот башни до самого дома. Трудно было бы решить, к какому ордену архитектуры принадлежало это чудное здание: все роды древние и новейшие были в нем перемешаны, как языки при вавилонском столпотворении, Низенькие и толстые колонны, похожие на египетские, поддерживали греческой фронтон; четырехугольные готические башни, прилепленные ко всем углам дома, прорезаны были широкими итальянскими окнами; а из средины кровли подымалась высокая каланча, которую Ижорской называл своим бельведером. С одной стороны примыкал к дому обширный сад с оранжереями, мостиками, прудами, сюрпризами и фонтанами, в которые накачивали воду из двух колодцев, замаскированных деревьями. Внутренность дома не уступала в разнообразии наружности; но всего любопытнее был кабинет хозяина и его собрание редкостей. Вместе с золотыми, вышедшими из моды табакерками лежали резные берестовые тавлинки; подле серебряных старинных кубков стояли глиняные размалеванные горшки — под именем этрурских ваз; образчики всех руд, малахиты, сердолики, топазы и простые камни лежали рядом; подле чучел белого медведя и пеликана стояли чучелы обыкновенного кота и легавой собаки; за стеклом хранились челюсть слона, мамонтовые кости и лошадиное ребро, которое Ижорской называл человеческим и доказывал им справедливость мнения, что земля была некогда населена великанами. Посреди комнаты стояла большая электрическая машина; все стены были завешаны панцирями, бердышами, копьями и ружьями; а по выдавшемуся вперед карнизу расставлены рядышком чучелы: куликов, петухов, куропаток, галок, грачей и прочих весьма обыкновенных птиц. Глядя на эту коллекцию безвинных жертв, хозяин часто восклицал с гордостию: «Кому другому, а мне Бюффон не надобен. Вот он в лицах!»
Двухэтажный дом Николая Степановича Ижорского, построенный по его плану, стоял на возвышенном месте, в конце обширного села, которое отделялось от деревни сестры его, Лидиной, небольшим лугом и узенькой речкою. Испещренный всеми возможными цветами китайской мостик, перегибаясь чрез речку, упирался в круглую готическую башню, которая служила заставою. Широкая липовая аллея шла от ворот башни до самого дома. Трудно было бы решить, к какому ордену архитектуры принадлежало это чудное здание: все роды древние и новейшие были в нем перемешаны, как языки при вавилонском столпотворении, Низенькие и толстые колонны, похожие на египетские, поддерживали греческой фронтон; четырехугольные готические башни, прилепленные ко всем углам дома, прорезаны были широкими итальянскими окнами; а из средины кровли подымалась высокая каланча, которую Ижорской называл своим бельведером. С одной стороны примыкал к дому обширный сад с оранжереями, мостиками, прудами, сюрпризами и фонтанами, в которые накачивали воду из двух колодцев, замаскированных деревьями. Внутренность дома не уступала в разнообразии наружности; но всего любопытнее был кабинет хозяина и его собрание редкостей. Вместе с золотыми, вышедшими из моды табакерками лежали резные берестовые тавлинки; подле серебряных старинных кубков стояли глиняные размалеванные горшки — под именем этрурских ваз; образчики всех руд, малахиты, сердолики, топазы и простые камни лежали рядом; подле чучел белого медведя и пеликана стояли чучелы обыкновенного кота и легавой собаки; за стеклом хранились челюсть слона, мамонтовые кости и лошадиное ребро, которое Ижорской называл человеческим и доказывал им справедливость мнения, что земля была некогда населена великанами. Посреди комнаты стояла большая электрическая машина; все стены были завешаны панцирями, бердышами, копьями и ружьями; а по выдавшемуся вперед карнизу расставлены рядышком чучелы: куликов, петухов, куропаток, галок, грачей и прочих весьма обыкновенных птиц. Глядя на эту коллекцию безвинных жертв, хозяин часто восклицал с гордостию: «Кому другому, а мне Бюффон не надобен. Вот он в лицах!»Спустя два дня после описанного нами разговора двух сестер, часу в десятом утра, в доме Ижорского шла большая суматоха. Дворецкой бегал из комнаты в комнату, шумел, бранился и щедрой рукой раздавал тузы лакеям и дворовым женщинам, которые подметали пыль, натирали полы и мыли стекла во всем доме. Сам барин, в пунцовом атласном шлафроке, смотрел из окна своего кабинета, как целая барщина занималась уборкой сада. Везде усыпали дорожки, подстригали деревья, фонтаны били колодезною водою; одним словом, все доказывало, что хозяин ожидает к себе необыкновенного гостя. Несколько уже минут он морщился, смотря на работающих. — Ну так и есть! — сказал он наконец с досадою, — я не вижу и половины мужиков! Эй, Трошка! беги скорей в сад, посмотри: всю ли барщину выгнали на работу? Слуга, спеша исполнить данное ему приказание, бросился опрометью вон из дверей и чуть не сшиб с ног Сурского и Рославлева, которые входили в кабинет. — А, любезные! милости просим! — закричал Ижорской. — Кстати пожаловали: вы мне пособите! Ум хорошо, а два лучше! — Да что у тебя такое сегодня? — спросил Сурской. — Как что? Я получил записку из города: сегодня обедает у меня губернатор. — Вот что! Да ведь ты хотел принять его запросто? — Эх, милый! ну, конечно, запросто; а угостить все-таки надобно. Ведь я не кто другой — не Ильменев же в самом деле! Ну что, Трошка?! — спросил он входящего слугу. — Староста, сударь, выгнал в сад только половину барщины. — Ах он мерзавец! Да как он смел? Вот я его проучу! Давай его сюда!.. Эка бестия! все умничает! Уж и на прошлой неделе он мне насолил; да счастлив, разбойник!.. Погода была так сыра, что электрическая машина вовсе не действовала. — Электрическая машина! — повторил с удивлением Сурской. — Да, братец! Я бить не люблю, и в наш век какой порядочной человек станет драться? У меня вот как провинился кто-нибудь — на машину! Завалил ему ударов пять, шесть, так впредь и будет умнее; оно и памятно и здорово. Чему ж ты смеешься, Сурской? конечно, здорово. Когда еще у меня не было больных и домового лекаря, так я от всех болезней лечил машиною. — Смотри пожалуй!.. И, верно, многих вылечивал? — Случалось, братец! Да вот, например, года два тому назад привели ко мне однажды Антона-скотника; взглянуть было жалко! Ревматизм, что ль, подагpa ли — право, не знаю; только вовсе обезножил. Вот я навертел, навертел!.. время было сухое — машина так и трещит! Велел ему взяться за цепочку, благословился, да как щелк!.. Гляжу, мужик мой закачался. Я еще... он и с ног долой, Глядь-поглядь — ахти худо! язык отнялся, глаза закатились; ну умер, да и только! Другой бы испугался, а я так нет. Благодарю моего создателя — не сробел! Ну-ка его лежачего удар за ударом. Что ж, сударь? Очнулся! Да как вскочит, батюшка!.. Господи боже мой! откуда ноги взялись. — Как! побежал? — Да так, сударь, что и догнать не могли. — Подлинно диковинка! — сказал Сурской. — И он совсем выздоровел? — Как же, братец! Как рукой сняло! И теперь еще здоровехонек... А, голубчик! — закричал Ижорской, увидя входящего старосту. — Поди-ка сюда! Так-то ты выполняешь мои приказания? Отчего не вся барщина в саду? — Виноват, батюшка! — отвечал староста, отвесив низкой поклон. — Я другую половину барщины выслал на вашу же господскую работу. — На какую работу? — На сенокос, батюшка! — На сенокос!.. Нашел время косить, скотина! Ну вот, братец! — продолжал хозяин, обращаясь к Сурскому, — толкуй с этим народом! Ты думаешь о деле, а он косить. Сейчас выслать всю барщину в сад. Слышишь? — Слушаю, батюшка! Только, воля ваша, если мы едак день за день... — Прошу покорно!.. Ах ты, дуралей! Что ты, учить, что ль, меня вздумал?.. — Да не сердись на него, — перервал Сурской, — ведь он заботится о твоей же пользе. — Не его дело рассуждать, в чем моя польза. Ну, что стоишь? Пошел! Староста, поклонясь в пояс, вышел из комнаты. — Да что ж, я не дождусь лекаря? — продолжал Ижорской. — Трошка! ступай скажи ему, что я его два часа уж дожидаюсь... А вот и он... Помилуй, батюшка, Сергей Иванович! Тебя не дозовешься. — Извините! — сказал лекарь, поклонясь Сурскому и Рославлеву, — я позамешкался: осматривал больницу. — Я за этим-то тебя и спрашивал. Ну что, все ли в порядке? — Кажется, все. — Ну, то-то же! О моей больнице много толков было в губернии. Смотри, чтоб нам при его превосходительстве себя лицом в грязь не ударить. Все ли расставлено в порядок и пробрано в аптеке? — Точно так же, как и всегда, Николай Степанович! — Как и всегда! Ну, так и есть — я знал! Эх, братец! Ведь я тебе толком говорил: сегодня будет губернатор, так надобно... ну знаешь, любезный!.. товар лицом показать. — Я вам докладываю, что все в порядке. — А в больнице? — Окна и полы вымыты, белье чистое... — А прибиты ли дощечки с надписями ко всем отделениям? — Хоть это бы и не нужно: у нас больница всего на десять кроватей; но так как вам это угодно, то я прибил местах в трех надписи. — На латинском языке? — На латинском и русском. — Хорошо, братец, хорошо! А сколько у нас больных? — Теперь ни одного. — Как ни одного? — вскричал с ужасом Ижорской. — Да, сударь! Третьего дня я выписал последнего больного — Илюшку-кучера. — Зачем? — Он выздоровел. — Да кто тебе сказал, что он выздоровел? с чего ты взял?.. Взможно ли — ни одного больного! Ну вот, господа, заводи больницы!.. ни одного больного! — Так что ж, мой друг? — сказал Сурской. — Как что ж? Да слышишь: ни одного больного! Что ж, я буду комнаты одни показывать? Ну, батюшка, Сергей Иванович! дай бог вам здоровья, потеши-ли меня... ни одного больного! — Помилуйте! что ж мне делать? — Что делать? А позвольте вас спросить: за что я плачу вам жалованье? Вы получаете тысячу рублей в год, квартиру, стол, экипаж — и ни одного больного! Что это за порядок? На что это походит? Эх! правду говорит сестра: вот вам и русской доктор — ни одного больного! Ах, боже мой! Боже мой! Ну, батюшка, спасибо вам — поднесли мне красное яичко, — ни одного больного! Да, кончено, господин русской доктор, кончено! Во что б ни стало заведу немца... да, сударь, немца! У него будут больные! Господи боже мой! ни одного больного!.. Смейтесь, господа, смейтесь. Вам что за горе! Не вы станете показывать больницу губернатору. — А что, Рославлев, — сказал шутя Сурской, — не выкупить ли нам его из беды! Прикинемся-ка больными! — Эх, братец, что за шутки! — Какие шутки? Ведь губернатор не станет больных осматривать, только бы постели-то не были пусты. — А что ты думаешь, любезный! Постой-ка... в самом деле!.. Эй, Трошка! Дворецкого, проворней! — Что вы хотите делать? — спросил Рославлев. — Постой, братец, постой!.. авось как-нибудь... Что в самом деле? Не велика фигура полежать денек. — Как?.. вы хотите?.. — Эх, братец, не мешай! Добро, так и быть! ступай домой, Сергей Иванович; да смотри, чтоб вперед этого не было. Теперь у нас будут и без тебя больные. Слушай, Парфен! — продолжал Ижорской, идя навстречу к дворецкому, — у нас теперь в больнице нет никого больных... — Да, сударь, слава богу! — Врешь, дурак! осел! слава богу!.. Что, я губернатору-то пустые стены стану показывать? Мне надобно больных — слышишь? — Слушаю, сударь! Да где ж я их возьму? — И знать не хочу — чтоб были! — Слушаю, сударь! — Да постой-ка, Парфен! Ты что-то больно изменился в лице, — уж здоров ли ты? — Слава богу-с! — То-то, смотри, запускать не надобно; видишь, как у тебя глаза ввалились. Эх, Парфен! ты точно разнемогаешься. Не полечиться ли, брат? — Нет уж, батюшка, Николай Степанович, помилуйте! Авось в дворне и без меня найдутся хворые. — Да как не быть. Ступай же проворнее. — А на всякой случай, что прикажете, если охотников не найдется? — Ну, что тут спрашивать, дурачина! Вышел на улицу, да и хватай первого, кто попадется: в больницу, да и все тут! Что в самом деле, барин я или нет? — Слушаю, сударь! Да не прикажете ли лучше нарядить с семьи по брату? — И то дело! Смотри, отбери тех, которые поще-душнее: Правда, в отделение водяной болезни надобно кого-нибудь потолще да подюжее!.. — Позвольте! Я уговорю нашего пономаря: ведь он распретолстый-толстый; а рожа-то так и расплылась. — В самом деле, уговори его, братец. — Дать ему рубли полтора, так он целые сутки пролежит как убитый. — Брось ему целковый. Да нет ли у тебя на примете кого-нибудь этак похуже, чтоб, знаешь, годился для чахотного отделения? — Похуже?.. Постойте-ка, сударь! Да чего ж лучше? Сапожник Андрюшка. Сухарь! Уж худощавее его не найдешь во всем селе: одни кости да кожа. — Точно, точно! Ай да Парфен! спасибо, брат! Ну, ступай же поскорей. Двое больных есть, а остальных подберешь. Да строго накажи им, как придут осматривать больницу, чтоб все лежали смирно. — Слушаю, сударь! — Не шевелились, колпаков не снимали и погромче охали. — Слушаю, сударь! — Ну, ступай! Ты смеешься, Сурской. Я и сам знаю, что смешно: да что ж делать? Ведь надобно ж чем-нибудь похвастаться. У соседа Буркина конный завод не хуже моего: у княгини Зориной оранжереи больше моих; а есть ли у кого больница? Ну-тка, приятель, скажи? К тому ж это и в моде... Нет, не в моде... — Вы хотите сказать: в духе времени, — перервал Рославлев. — Да, в духе времени. Это уж, братец, не экономическое заведение, а как бишь, постой... — Человеколюбивое, — сказал Сурской. — Да, да! человеколюбивое! а эти заведения нынче в ходу, любезный. Почему знать?.. От губернатора пойдет и выше, а там... Да что загадывать; что будет, то и будет... Ну, теперь рассуди милостиво! Если б я стал показывать пустую больницу, кого бы удивил? Ведь дом всякой выстроить может, а надпись сделать не фигура. — Да у тебя, как я вижу, большие планы, любезный! — сказал с улыбкою Сурской. — Ты хочешь прослыть филантропом. — Полно, брат! по-латыни-та говорить! Не об этом речь: я слыву хлебосолом, и надобно сегодня поддержать мою славу. Да что наши дамы не едут? Я разослал ко всем соседям приглашения: того и гляди, станут наезжать гости; одному мне не управиться, так сестра бы у меня похозяйничала. А уж на будущей неделе я стал бы у нее хозяйничать, — прибавил Ижорской, потрепав по плечу Рославлева. — Что, брат, дождался, наконец? Ведь свадьба твоя решительно в воскресенье? — Да, Полина согласилась не откладывать далее моего счастия. — Порядком же она тебя помаила. Да и ты, брат! — не погневайся — зевака. Известное дело, невеста сама наскажет: пора-де под венец! Повернул бы покруче, так дело давно бы было в шляпе. Да вот, никак, они едут. Ну что стоишь, Владимир? Ступай, братец! вынимай из кареты свою невесту. Хотя здоровье Оленьки не совсем еще поправилось, но она выходила уже из комнаты, и потому Лидина приехала к Ижорскому с обеими дочерьми. При первом взгляде на свою невесту Рославлев заметил, что она очень расстроена. — Что с вами сделалось, Полина? — спросил он. — Здоровы ли вы? — C'est une folle! (Это сумасшедшая! (фр.)) — сказала Лидина. — Представьте себе, я сейчас получила письмо из Москвы от кузины; она пишет ко мне, что говорят о войне с французами. И как вы думаете? ей пришло в голову, что вы пойдёте опять в военную службу. Успокойте ее, бога ради! — Я надеюсь, — отвечал Рославлев, — что Наполеон не решится идти в Россию; и в таком случае даю вам честное слово, что не надену опять мундира. — А если он решится на это? — Тогда эта война сделается народною, и каждый русской обязан будет защищать свое отечество. Ваша собственная безопасность... — О, обо мне не беспокойтесь! Мы уедем в наши тамбовские деревни. Россия велика; а сверх того, разве Наполеон не был в Германии и Италии? Войска дерутся, а жителям какое до этого дело? Неужели мы будем перенимать у этих варваров — испанцев? — Но наша национальная честь, сударыня... наша слава? — И полноте! Вы и в каком случае не пойдете в военную службу. — Даже и тогда, когда вся Россия вооружится? — Даже и тогда. Послушайте! Если вы хотите жениться на будущей неделе, то и не думайте о службе; в противном случае оставайтесь женихом до окончания войны. Я не хочу, чтоб Полина рисковала сделаться вдовою или, что еще хуже, чтоб муж ее воротился без руки или ноги... Но вот брат; перестанемте говорить об этом. Вы знаете теперь, чего я требую, и будьте уверены, что ни за что не переменю моего решения. Quelle folie! (Какое безумие! (фр.)) Во Франции женятся для того, чтоб не попасть в конскрипты (рекруты.), а вы накануне вашей свадьбы хотите идти в военную службу. — Насилу ты, сестра, приехала! — закричал Ижорской, идя навстречу к Лидиной. — Ступай, матушка, в гостиную хозяйничать, вон кто-то уж едет. — Что за экипаж! — сказала Лидина. — Неужели это карета? — Не погневайтесь, сударыня! домашней работы. Это едет Ладушкин. — Ах, боже мой!.. и в восемь лошадей! — Разумеется, он человек расчетливый: ведь они будут целый день на чужом корму. — А это кто? посмотрите справой стороны — как будто б в дилижансе? — Это катит в своей восьмиместной линее княгиня Зорина со всем семейством. — Какой ридикюльный (смешной (от фр. ridicule)) экипаж! — Не щеголеват, да покоен, матушка. А вон, никак, летит на удалой тройке сосед Буркин. Экие кони!.. Ну, нечего сказать, славный завод! И откуда, разбойник, достал маток? Все чистой арабской породы! Вот еще кто-то... однако мне пора приодеться; а вы, барыни, ступайте-ка в гостиную да принимайте гостей. Рославлев взял под руку Сурского и, отведя его к стороне, рассказал ему свой разговор с Лидиной. — Что ж ты намерен делать? — спросил Сурской, помолчав несколько времени. — А что сделаете вы, если у нас будет народная война? — Я не жених, мой друг! Мое положение совершенно не сходно с твоим. — Однако ж что вы сделаете? — Сниму со стены мою заржавленную саблю и пойду драться. — И после этого вы можете меня спрашивать!.. Когда вы, прослужив сорок лет с честию, отдав вполне свой долг отечеству, готовы снова приняться за оружие, то может ли молодой человек, как я, оставаться простым зрителем этой отчаянной и, может быть, последней борьбы русских с целой Европою? Нет, Федор Андреевич, если б я навсегда должен был отказаться от Полины, то и тогда пошел бы служить; а постарался бы только, чтоб меня убили на первом сражении. — Я не сомневался в этом, — сказал Сурской, пожав руку Рославлеву. — Да, мой друг! всякая частная любовь должна умолкнуть перед этой общей и священной любовью к отечеству! — Но, может быть, это одни пустые слухи, и войны не будет. — Нет, мой друг! — сказал Сурской, покачав сомнительно головою, — мы дошли до такого положения, что даже не должны желать мира. Наполеон не может иметь друзей: ему нужны одни рабы; а благодаря бога наш царь не захочет быть ничьим рабом; он чувствует собственное свое достоинство и не посрамит чести великой нации, которая при первом его слове двинется вся навстречу врагам. У нас нет крепостей, но русские груди стоят их. Я также получил письмо из Москвы, и хотя война еще не объявлена, а вряд ли уже мы не деремся с французами. Широкоплечий, вершков десяти ростом, господин в коричневом длинном фраке, из кармана которого торчал чубук с янтарным мундштуком, войдя в комнату, перервал разговор наших приятелей. — Здравствуйте, батюшка Федор Андреевич! — заревел он толстым басом. — Бог вам судья! Я неделю провалялся в постеле, а вы, нет чтоб проведать, жив ли, дискать, мой сосед Буркин. — Я, право, не знал, чтобы вы были нездоровы, — сказал Сурской. — Да, сударь, чуть было не прыгнул в Елисейские. Вы знаете моего персидского жеребца, Султана? Я стал показывать конюху, как его выводить, — черт знает что с ним сделалось! Заиграл, да как хлысть меня под самое дыханье! Поверите ль, света божьего невзвидел! Как меня подняли, как раздели, как Сенька-коновал пустил мне кровь, ничего не помню! Насилу на другой день очнулся. — Напрасно вы так неосторожны. — И, батюшка, на грех мастера нет! Как убережешься? Да вот спросите Владимира Сергеевича: он был кавалеристом, так знает, как обращаться с лошадьми, а верно, и его бивали — нельзя без этого. Да кстати, Владимир Сергеевич!.. взгляните-ка на мою тройку; ведь вы знаток. — Позвольте мне после ею полюбоваться. Хозяин просил меня принимать гостей, а вот, кажется, приехал Ладушкин. — И ее сиятельство княгиня Зорина. За версту узнаю ее шестерню. Oхота же кормить овсом таких одров! Эки клячи — одна другой хуже! Часа через два весь двор Николая Степановича Ижорского наполнился дормезами (доряжными каретами (фр.)), откидными кибиточками, линеями, таратайками и каретами, из которых многие, по древности своей, могли бы служить украшением собранию редкостей хозяина. В ожидании обеда дамы чиннехонько сидели на канапе в гостиной, разговаривали меж собою вполголоса, бранили отсутствующих и, стараясь перенимать парижские манеры Лидиной, потихоньку насмехались над нею. Барышни прогуливались по саду; одни говорили о новых московских модах, другие расспрашивали Полину и Оленьку о Франции и, желая показать себя перед парижанками, коверкали без милосердия несчастный французской язык. В числе этих гостей первое место занимали две институтки, милые, образованные девицы, с которыми Лидины были очень дружны, и княжны Зорины, три взрослые невесты, страстные любительницы изящных художеств. Старшая не могла говорить без восторга о живописи, потому что сама копировала головки en pastel (пастелью (фр.)); средняя, приходила почти в исступление при имени Моцарта, потому что разыгрывала на фортепианах его увертюры; а меньшая, которой удалось взять три урока у знаменитой певицы Мары, до того была чувствительна к собственному своему голосу, что не могла никогда промяукать до конца «ombra a dorata» («возлюбленная тень» (ит.)) без того, чтоб с ней не сделалось дурно. Эти три сестры, кото-рых и в стихах нельзя было назвать тремя грациями, прогуливались вместе и поодаль от других. Сделав несколько замечаний насчет украшений сада, посмеясь над деревянным раскрашенным китайцем, который с огромным зонтиком стоял посреди одной куртины, и над алебастровой коровою, которая паслась на небольшом лугу, они сели на скамейку против террасы дома, уставленной померанцевыми деревьями. В эту самую минуту сошел с нее Рославлев. — Как смешон этот жених! — сказала средняя сестра. — Он только и видит свою невесту. Неужели он в самом деле влюблен в нее? Какой странный вкус! — Il est pourtant bel homme! (Он, однако, красивый мужчина! (фр.)) — возразила старшая. — Посмотрите, какой греческой профиль, какая правильная фигура, как все позы его грациозны!.. — Да, он недурен собою, — прибавила меньшая княжна. — Заметили ль, какой у него густой и приятный орган? Я уверена, у него должен быть или бас, или баритон, и если он поет «ombra adorata»... — Я слышала, что он играет хорошо на скрыпке, — перервала средняя, — и признаюсь, желала бы испытать, может ли он аккомпанировать музыку Моцарта. — У него тысяча душ, — сказала старшая. — Et il est maitre de sa fortune! (И он хозяин своего состояния! (фр.)) — прибавила средняя. — Для чего маменька не пригласит его на наши музыкальные вечера? — примолвила меньшая. — Ему должно быть здесь очень скучно. — Разумеется, — подхватила старшая. — Эта Лидина нагонит на всякого тоску своим Парижем; брат ее так глуп! Оленька хорошая хозяйка, и больше ничего; Полина... — О, Полина должна быть для него божеством! — перервала меньшая. — Не верю, — продолжала старшая, — его завели, и что тут удивительного? В деревне, каждый день вместе... — Конечно, конечно, — подхватила меньшая. — Ах, как чудна маменька! Почему она не хочет знакомиться с своими соседями? — Посмотрите, — шепнула старшая, — он на нас глядит. — Бедняжка! не смеет подойти. О! да эта сантиментальная Полина преревнивая! — И пренесносная! Вечно грустит, а бог знает о чем? — Хочет казаться интересною. — Ах, боже мой, вот еще какие претензии! Совсем другого рода шли разговоры в столовой, где мужчины толпились вокруг сытного завтрака. Буркин, выпив четвертую рюмку зорной водки, рассказывал со всеми подробностями, как персидской жеребец отшиб у него память. Ладушкин, Ильменев и несколько других второстепенных помещиков молча трудились кругом жирного окорока и доканчивали вторую бутылку мадеры. В одном углу Сурской говорил с дворянским предводителем о политике; в другом — несколько страстных псовых охотников разговаривали об отъезжих полях, хвастались друг перед другом подвигами своих борзых собак и лгали без всякого зазрения совести. Но хозяину было не до разговоров: он горел как на огне; давно уже пробило два часа, а губернатор не ехал; вот кукушка в лакейской прокуковала три раза; вот, наконец, в столовой часы с курантами проиграли «выду я на реченьку» и колокольчик прозвенел четыре раза, а об губернаторе и слуха не было. — Что ж это в самом деле? — сказал хозяин, когда еще прошло полчаса, — его превосходительство шутит, что ль? Ведь я не навязывался к нему с моим обедом. — Николай Степанович! — сказал дворецкой, войдя торопливо в столовую, — кто-то скачет по большой дороге. — Слава тебе господи, насилу! Скорей кушать! Да готовы ли музыканты? Лишь только губернатор из кареты, тотчас и начинать «гром победы раздавайся!». Иль нет... лучше марш... — Да это едет кто-то в тележке, сударь, а не в карете. — Как в тележке? Э, дурак! что ж ты прибежал как шальной!.. Так это не губернатор... постой-ка... кажется... так и есть — наш исправник. Проси его скорей сюда: он, верно, прислан от его превосходительства. Через минуту вошел небольшого роста мужчина с огромными рыжими бакенбардами, в губернском мундире военного покроя, подпоясанный широкой портупеею, к которой прицеплена была сабля с серебряным темляком. Не кланяясь никому, он подошел прямо к хозяину и сказал: — Его превосходительство изволил прислать меня... — Ну что, Иван Пахомыч, — перервал Ижорской, — скоро ли он будет? — Его превосходительство изволил прислать меня... — Да говори скорей, едет он или нет? — Сейчас доложу. Его превосходительство изволил прислать меня уведомить вас, что он, по встретившимся обстоятельствам... — Не может у меня обедать? — Позвольте!.. Его превосходительство изволил прислать меня... — Да тьфу, пропасть! говори без околичностей, будет он или нет? — Сейчас... Изволил прислать меня, уведомить вас, что по встретившимся обстоятельствам он не может сегодня у вас кушать. — Отчего?.. Почему?.. — Он получил сейчас важные депеши и отправился немедля в губернский город. — Как! не пообедавши? — Точно так-с. — Ай, ай, ай! что такое?.. Видно, дело не шуточное? Исправник пожал плечами, наморщил лоб и, погладив с важностию свои бакенбарды, сказал протяжно и значительным голосом: «Да-с». Все гости с приметным любопытством окружили исправника. — Не знаете ли вы, что такое? — спросил Сурской. — Формально доложить не могу, — отвечал исправник, — а кажется, большая экстра. — Да когда он получил эти бумаги? — спросил предводитель. — Аккурат в три часа. — И вам неизвестно их содержание? — Почему ж мне знать-с? — отвечал исправник с улыбкою, которая доказывала совершенно противное. — Полно, любезный, секретничать!.. — заревел Буркин. — Как тебе не знать? Ты детина пролаз — все знаешь. — Помилуйте-с! наше дело исполнять предписания вышняго начальства, а в государственные дела мы не мешаемся. Конечно, секретарь его превосходительства мне с руки; но, осмелюсь доложить, если б я что-нибудь и знал, то и в таком случае служба... долг присяги... — Что вы с ним хлопочете, господа? — перервал Ижорской. — Я знаю этого молодца: натощак от него толку не добьешься. Пойдемте-ка обедать, авось за рюмкою шампанского он выболтает нам свою государственную тайну. Эй, малый! ступай в сад, проси барышень к столу. Водки! Господа, милости просим! Хозяин повел княгиню Зорину; прочие мужчины повели также дам к столу, который был накрыт в длинной галерее, увешанной картинами знаменитых живописцев, — так, по крайней мере, уверял хозяин, и большая часть соседей верили ему на честное слово; а некоторые знатоки, в том числе княжны Зорины, не смели сомневаться в этом, потому что на всех рамах написаны были четкими буквами имена: Греза, Ван-дика, Рембрандта, Албана, Корреджия, Салватор Розы и других известных художников. Гости сели; оркестр грянул «гром победы раздавайся!» — и две огромные кулебяки развлекли на несколько минут внимание гостей, устремленное на великолепное зеркальное плато, края которого были уставлены фарфоровыми китайскими куклами, а средина занята горкою, слепленною из раковин и изрытою небольшими впадинами; в каждой из них поставлен был или фарфоровый пастушок в французском кафтане; с флейтою в руках, или пастушка в фижмах, с овечкою у ног. Многим из гостей чрезвычайно понравился этот образчик Швейцарии; но появление янтарной ухи из аршинной стерляди, а вслед за ней двухаршинного осетра под соусом сосредоточило на себе все удивление пирующих. Деревенские гастрономы ахнули. Отрывок альпийской горы, зеркальное море, саксонские куклы, китайские уродцы — все было забыто; разговоры прекратились, и тихой ангел приосенил своими крыльями все общество. Пользуясь правом жениха, Рославлев сидел за столом подле своей невесты; он мог говорить с нею свободно, не опасаясь нескромного любопытства соседей, потому что с одной стороны подле них сидел Сурской, а с другой Оленька. В то время как все, или почти все, заняты были едою, этим важным и едва ли ни главнейшим делом большей части деревенских помещиков, Рославлев спросил Полину: согласна ли она с мнением своей матери, что он не должен ни в каком случае вступать снова в военную службу? — Вы знаете, чего от вас требует маменька, — отвечала Полина. — Но я желал бы также знать, что думаете вы? — Я обязана ей повиноваться. — Но скажите, что должен я делать? — Вам ли меня об этом спрашивать, Волдемар! Что могу сказать я, когда собственное сердце ваше молчит? — Итак, я должен оставаться хладнокровным свидетелем ужасных бедствий, которые грозят нашему отечеству; должен жить спокойно в то время, когда кровь всех русских будет литься не за славу, не за величие, но за существование нашей родины; когда, может быть, отец станет сражаться рядом с своим сыном и дед умирать подле своего внука. Нет, Полина! или я совсем вас не знаю, или любовь ваша должна превратиться в презрение к человеку, который в эту решительную минуту будет думать только о собственном своем счастии и о личной своей безопасности. — Но зачем тревожить себя заранее этой мыслию? — сказала Полина после короткого молчания. — Быть может, это одни пустые слухи. — Может быть! Но по всему кажется, что эта война неизбежна. — Война! — повторила Полина, покачав печально головою. — Ах! когда люди станут думать, что они все братья, что слава, честь, лавры, все эти пустые слова не стоят и одной капли человеческой крови. Война! Боже мой!.. И, верно, эта война будет самая бесчеловечная?.. — О! что касается до этого, — отвечал Рославлев, — то французы должны пенять на самих себя: они заставили себя ненавидеть, а ненависть не знает сострадания и жалости. Испанцы доказали это. — Но неужели и русские так же, как испанцы, не станут щадить никого?.. Будут резать беззащитных пленных? — спросила с приметным беспокойством Полина. — Кто может предузнать, — отвечал Рославлев, — до чего дойдет ожесточение русских, когда в глазах народа убийство и мщение превратятся в добродетели, и всякое сожаление к французам будет казаться предательством и изменою. Когда война становится национальною, то все права народные теряют свою силу. Стараться истреблять всеми способами неприятеля, убивать до тех пор, пока не убьют самого, — вот в чем состоит народная война и вот чего добиваются Наполеон и его французы. Переступив однажды за нашу границу, они не должны уже и думать о мире. Да, Полина, в этой войне средины быть не может; они должны или превратить всю Россию в обширное кладбище, или все погибнуть. Полина побледнела. — Это ужасно! — сказала она. — Несчастные! но виноваты ли они?.. Все погибнут!.. Боже мой!.. Если... Оленька схватила за руку сестру свою; она замолчала, опустила глаза книзу, и бледные щеки ее запылали. — Э, племянничек! — закричал Ижорской, — говорить-то с невестою можно, а есть все-таки надобно. Что ж ты, Поленька! ведь этак жених твой умрет голодной смертью. Да возьми, братец! ведь это дупельшнепы! Эй, шампанского! Здоровье его превосходительства, нашего гражданского губернатора. Туш! Трубачи протрубили, шампанское обнесли. — Здоровье хозяина! — закричал Буркин, и снова затрещало в ушах у бедных дам. Трубачи дули, мужчины пили; и как дело дошло до домашних наливок, то разговоры сделались до того шумны, что почти никто уже не понимал друг друга. Наконец, когда обнесли двенадцатую тарелку с сахарным вареньем, хозяин привстал и, совершенно уверенный, что говорит неправду, сказал: — Не осудите, дорогие гости, если встаете голодные из-за стола, не прогневайтесь! Чем богаты, тем и рады! Все поднялись в одно время. Мужчины отвели прежним порядком дам в гостиную; а сами, выпив по чашке кофе, отправились вместе с хозяином осматривать его оранжереи, конский завод, псарню и больницу. ГЛАВА II Сурской и Рославлев, обойдя с другими гостьми все оранжереи и не желая осматривать прочие заведения хозяина, остались в саду. Пройдя несколько времени молча по крытой липовой аллее, Сурской заметил наконец Рославлеву, что он вовсе не походит на жениха. — Ты так грустен и задумчив, — сказал он, — что как будто бы в самом деле должен сегодня же, и навсегда, расстаться с твоей невестою. — Почему знать? — отвечал со вздохом Рославлев, — По крайней мере, я почти уверен, что долго еще не буду ее мужем. Скажите, могу ли я обещать, что не пойду служить даже и тогда, когда французы внесут войну в сердце России? — Нет, не можешь; но почему ты уверен, что Наполеон решится... — На что не решится этот баловень фортуны, этот надменный завоеватель, ослепленный собственной своей славою? Куда ни пойдут за ним французы, привыкшие видеть в нем свое второе провидение? Французы!.. Я знаю человека, которого ненависть к французам казалась мне отвратительною: теперь я начинаю понимать его. — Не верю, мой друг! ты это говоришь в минуту досады. Просвещенный человек и христианин не должен и не может ненавидеть никого. Как русской, ты станешь драться до последней капли крови с врагами нашего отечества, как верноподданный — умрешь, защищая своего государя; по если безоружный неприятель будет иметь нужду в твоей помощи, то кто бы он ни был, он, верно, найдет в тебе человека, для которого сострадание никогда не было чуждой добродетелью. Простой народ почти везде одинаков; но французы называют нас всех варварами. Постараемся же доказать им не фразами — на словах они нас загоняют, — а на самом деле, что они ошибаются. — Но можно ли смотреть хладнокровно на эту нацию?.. — Можно, мой друг, тому, кто знает ее больше, чем ты. Во-первых, тот, кто не был сам во Франции, едва ли имеет право судить о французах. Никто не может быть милее, любезнее, вежливее француза, когда он дома; но лишь только он переступил за границу своего отечества, то становится совершенно другим человеком. Он смотрит на все с презрением; все то, что не походит на обычаи и нравы его родины, кажется ему варварством, невежеством и безвкусием. Но и в этом смешном желании уверять весь мир, что в одной только Франции могут жить порядочные люди, я вижу чувство благородное. Известное слово одного француза, который на вопрос, какой он нации, отвечал, что имеет честь быть французом, — не самохвальство, а самое истинное выражение чувств каждого из его соотечественников; и если это порок, то, признаюсь, от всей души желаю, чтоб многие из нас, рабски перенимая все иностранные моды и обычай, заразились бы наконец и этим иноземным пороком. — Но согласитесь, что чванство, самонадеянность и гордость французов невыносимы. — Что ж делать, мой друг? Все народы имеют свои национальные слабости; и если говорить правду, то подчас наша скромность, право, не лучше французского самохвальства. Они потеряют сражение, и каждый из них будет стараться уверить и других и самого себя, что оно не проиграно; нам удастся разбить неприятеля, и тот же час найдутся охотники доказывать, что мы или не остались победителями, или, по крайней мере, победа наша весьма сомнительна. Да вот, например, если у нас будет война и бог поможет нам не только отразить, но истребить французскую армию, если из этого ополчения всей Европы уцелеют только несколько тысяч... Но что я говорю? если одна только рота французских солдат выйдет из России, то и тогда французы станут говорить и печатать, что эта горсть бесстрашных, этот священный легион не бежал, а спокойно отступил на зимние квартиры и что во время бессмертной своей ретирады (отступления (фр.)) беспрестанно бил большую русскую армию; и нет сомнения, что в этом хвастовстве им помогут русские, которые станут повторять вслед за ними, что климат, недостаток, стечение различных обстоятельств, одним словом, все, выключая русских штыков, заставило отступить французскую армию. — Перестаньте! Я не хочу верить, чтоб нашлись между русскими такие презрительные, низкие души... — Но эти же самые русские, мой друг, станут драться, как львы, защищая свою родину. Все это в порядке вещей, и мы не должны сердиться ни на французов за их хвастовство, ни на русских за их несправедливость к самим себе. Беспрерывный ряд побед, двадцать пять лет колоссальной славы... о мой друг! от этого закружатся и не французские головы! А мы... нас также можно извинить. Вот изволишь видеть: по мнению моему, история просвещения всех народов разделяется на три эпохи. В первую, то есть эпоху варварства, мы не только чуждаемся всех иностранцев, но даже презираем их. Иноземец, в глазах наших, почти не человек; он должен считать за милость, если мы дозволяем ему жить между нами и обогащать нас своими познаниями. Мало-помалу, привыкая думать, что эти пришлецы созданы так же, как и мы, по образу и по подобию божию, мы постепенно доходим до того, что начинаем перенимать не только их познания, но даже и обычаи; и тогда наступает для нас вторая эпоха. Презрение к иностранцам превращается в безусловное уважение; мы видим в каждом из них своего учителя и наставника; все чужеземное кажется нам прекрасным, все свое — дурным. Мы думаем, что только одно рабское подражание может нас сблизить с просвещенными народами, и если в это время между нас родится гений, то не мы, а разве иностранцы отдадут ему справедливость: это эпоха полупросвещения. Наконец, век скороспелок и обезьянства проходит. Плод многих годов, бесчисленных опытов — прекрасный плод не награжденных ни славою, ни почестьми бескорыстных трудов великих гениев — созревает; истинное просвещение разливается по всей стране; мы не презираем и не боготворим иностранцев; мы сравнялись с ними; не желаем уже знать кое-как все, а стараемся изучить хорошо то, что знаем; народный характер и физиономия образуются, мы начинаем любить свой язык, уважать отечественные таланты и дорожить своей национальной славою. Это третья и последняя эпоха народного просвещения. Для большей части русских первая, кажется, миновалась; но последняя, по крайней мере для многих, еще не наступила. — Но разве это может служить оправданием для тех, которые злословят свое отечество? — А как же, мой друг? Беспристрастие есть добродетель людей истинно просвещенных; и вот почему некоторые русские, желающие казаться просвещенными, стараются всячески унижать все отечественное, и чтоб доказать свое европейское беспристрастие, готовы спорить с иностранцем, если он вздумает похвалить что-нибудь русское. Конечно, для чести нашей нации не мешало бы этих господ, как запрещенный товар, не выпускать за границу; но сердиться на них не должно. Они срамят себя в глазах иностранцев и позорят свою родину не потому, что не любят ее, а для того только, чтоб казаться беспристрастными и, следовательно, просвещенными людьми. Вот, с месяц тому назад я был вместе с соседом нашим Ильменевым у Волгиных, которые на несколько недель приезжали в свою деревню из Москвы; с первого взгляда мне очень понравился их единственный сын, ребенок лет двенадцати, — и подлинно необыкновенный ум и доброта отпечатаны на его миловидном лице; но чрез несколько минут это первое впечатление уступило место чувству совершенно противному. Этот мальчишка умничал, мешался преважно в разговоры, находил, что в деревне все дурно, что мужики так глупы, и, желая казаться совершенным человеком, так часто кричал и шумел на людей без всякой причины, подражая своему папеньке, который иногда журил их за дело, что под конец мне стало гадко на него смотреть. Я сказал об этом Ильменеву, который отвечал мне весьма хладнокровно: «И, сударь, что еще на нем взыскивать: глупенек, батюшка, — дитя! как подрастет, так поумнеет». Как ты думаешь, Рославлев? не лучше ли и нам не сердиться на наших полупросвещенных умниц, а говорить про себя: «Что еще на них взыскивать — дети! как подрастут, так поумнеют!» Но вот, кажется, идет хозяин. Что такое? Посмотри-ка, на нем лица нет. Что с тобой сделалось, мой друг? — продолжал Сурской, идя к нему навстречу. — Что сделалось? — повторил глухим голосом Ижорской. — Ничего... Осрамили, зарезали, живого в гроб положили, вот и все!.. — Как? — Да так... Ух, батюшки!.. Дайте дух перевести!.. Дурачье! животные! разбойники!.. — Ты пугаешь меня. Да что сделалось? — Безделица!.. Все труды, заботы, расходы, все пошло к черту!.. Да уж я же его! И что он за доктор?.. Цирюльник!.. Нынче же с двора долой! — Ага! так дело идет о твоей больнице. — О больнице? О какой больнице? У меня нет больницы!.. Завтра же велю сломать эту проклятую больницу, чтоб и праху ее не осталось. — Помилуйте! за что такой гнев? — Что, братец, сняли голову с плеч, да и только. Представь себе: я повел гостей осматривать мои заведения; дело дошло и до больницы. Вот вошли сначала в аптеку; гости ахнули!.. что за порядок!.. банка к банке, склянка к склянке — ну любо-дорого смотреть! Предводитель так и рассыпался: и благодетель-то я нашего уезда, и просвещенный помещик, и какую честь делает всей губернии это заведение, и прочее. Я кланяюсь, благодарю и думаю про себя: «Погоди, приятель! как взглянешь на больницу, так не то еще заговоришь». Вот вошли; коридор чистый, светлый, нечего сказать — славно! «Отделение хронических болезней! — прокричал лекарь. — Камера нумер первый — водяная болезнь». Растворяю дверь — глядь на постелю: ахти!.. так меня и обдало морозом — тщедушный Андрюшка-сухарь! Я поскорей вон да в другие двери. Предводитель читает надпись: «Камера вторая — чахотка». Вхожу; все за мной. Ну!!! ноги подкосились! Боже мой!.. толстый пономарь!.. «Давно ли у тебя чахотка?» — спросил, улыбаясь, предводитель. «Около года, сударь!» — отвечал пономарь. «Оно и заметно — заревел дурачина Буркин. — Смотри-ка, сердечный, как ты зачах!» Зачах!.. а рожа-то у него, братец, с пивной котел! Предводитель прыснул, гости померли со смеху, а я уж и сам не помню, как бросился вон из дверей, как ударился лбом о притолку, как наткнулся теперь на вас — ничего не знаю! — Помилуй, братец, что ж это за беда? — Как что за беда? Да как мне теперь глаза показать?.. Ну если догадаются?.. — И, мой друг, кому придет в голову, что у тебя больные по наряду? Перемешали надписи, вот и все тут. — Так ты думаешь, что я могу сказать?.. — Разумеется. Долго ли вместо одной дощечки прибить другую. Да вот, кстати, все гости идут сюда; ступай к ним навстречу, скажи, что это ошибка, и, чтоб они перестали смеяться, начни хохотать громче их. Ижорской, успокоенный этими словами, пошел навстречу к гостям и, поговоря с ними, повел их в большую китайскую беседку, в которой приготовлены были трубки и пунш. Один только исправник отделился от толпы и, подойдя к Рославлеву, сказал: — Извините, Владимир Сергеевич, совсем из ума вон. Ведь у меня есть к вам письмо. — От кого? — спросил Рославлев. — Не могу доложить. Оно пришло по почте. Я знал, что найду вас здесь, так захватил его с собою. Вот оно. — От Зарецкого! — вскричал Рославлев, взглянув на адрес. — Как я рад! Исправник отправился вслед за другими гостями в беседку, а Рославлев, распечатав письмо, начал читать следующее: «Ну, мой друг, отгадывай, что я? где я? и что делал сегодня поутру? Да что тебя мучить по-пустому: век не отгадаешь. Я гусарской ротмистр, стою теперь на биваках, недалеко от Белостока, и сегодня поутру дрался с французами. Не ахай, не удивляйся, а слушай: я расскажу тебе все по порядку. Прощаясь с тобой, я уже намекал тебе, что мне становится скучно жить в Петербурге. Когда ты уехал, мне стало еще скучнее. Ты знаешь, я долго размышлять не люблю; задумал, решился, надел мундир; тетушка благословила меня образом, а кузины... ведь я отгадал, mon cher! ни одна из них не заплакала, прощаясь со мною. Я прискакал в Вильну, нашел там почти всех наших сослуживцев. Нам давали балы, мы веселились; но и среди танцев горели нетерпением встретить скорее гостей, которые стояли за Неманом, церемонились и как будто бы дожидались приглашения. Наконец 12-го числа июня они переправились на нашу сторону, и пошла потеха — только не для нас, а для одних казаков. Я выпросился в авангард, который стал теперь ариергардом, потому что наши войска ретируются. Одни говорят, для того, чтоб соединиться с молдавской армиею, которая спешит нам навстречу; другие — чтоб заманить Наполеона поглубже в Россию и угостить его точно так же, как, блаженной памяти, шведского короля под Полтавою. Не знаю, чему верить, но не сомневаюсь в одном — nous reculons pour mieux sauter (мы отступаем, чтобы лучше наступать (фр.)). Кажется, неприятель втрое нас сильнее; только мы дома, а он на чужой стороне. Франция далеко, а немцам любить его не за что. Все это должно ободрять нас; однако же я думаю, что без народной войны дело не обойдется. Тебе кланяется твой бывший начальник, генерал Б. У него недостает одного адъютанта, но он не торопится заместить эту ваканцию и просил меня об этом тебя уведомить. Послушай, Рославлев! Я никогда не хвастался моим патриотизмом; всегда любил и даже теперь люблю французов, а уж успел с ними подраться. Ты зарекся говорить по-французски, бредишь всем русским — и ходишь еще во фраке. Женат ли ты или нет, все равно. Если ты только здоров, скачи к нам на курьерских; если болен, ступай на долгих; если умираешь, то вели, по крайней мере, похоронить себя в мундире. Да, мой друг, эта война не походит на прежние; дело идет о том, чтоб решить навсегда: есть ли в Европе русское царство или нет? Сегодня чем свет французская военная музыка играла так близко от наших биваков, что я подлаживал ей на моем флажолете (старинной флейте (от фр. le flageolet)); а около двенадцатого часа у нас завязалось жаркое аванпостное дело. Мы потихоньку подвигались назад; французы лезли вперед, и надобно сказать правду — молодцы, славно дерутся! Один из них с эскадроном конных егерей врезался в самую средину наших казаков; но я подоспел с гусарами. Конным егерям отпели вечную память, а начальника их мне удалось своими руками взять в плен, или, лучше сказать, спасти от смерти, потому что он не сдавался и дрался как отчаянной. Теперь он в моем шалаше спит прекрепким сном. Что за молодец, братец! Ему нет тридцати лет, а он уж полковник; а как любезен, какой хороший тон! Впрочем, это нимало не удивительно: се n'est pas un officier de fortune (он ведь офицер не по капризу судьбы (фр.)). Фамилия его одна из самых древних во Франции. Он граф Адольф Сеникур. Завтра чем свет его отправляют, вместе с другими пленными, в средину России, и поверишь ли? он так обворожил меня своею любезностию, что мне грустно будет с ним расстаться. Прощай, мой друг!.. или нет: до свиданья! Я уверен, что ты, прочитав мое письмо, велишь укладывать свой чемодан, пошлешь за курьерскими — и если какая-нибудь французская пуля не вычеркнет меня из списков, то я скоро угощу тебя на моем биваке и пуншем и музыкою. Да, мой друг! и музыкою. От нечего делать я так набил руку на моем флажолете, что и сам себе надивиться не могу. Итак, до свиданья! Твой друг, Александр Зарецкой. Июня 19-го. Бивак близ Белостока».  — Итак, все кончено! — вскричал Рославлев. — Я должен расстаться с Полиною, и, может быть, — навсегда!
— Итак, все кончено! — вскричал Рославлев. — Я должен расстаться с Полиною, и, может быть, — навсегда! — Уж и навсегда, мой друг? — сказал Сурской. — Конечно, за жизнь военного человека ручаться нельзя; но почему же думать, что непременно ты?.. — Ах, я ничего не думаю! В голове моей нет ни одной мысли; а здесь, — продолжал Рославлев, положа руку на грудь, — здесь все замерло. Так! если верить предчувствиям, то в здешнем мире я никогда не назову Полину моею. Я должен расстаться и с вами... — Ненадолго, мой друг! мы скоро увидимся. Но вот, кажется, Лидина с дочерьми. Они идут сюда. Ты скажешь им?.. — Да, я хочу, я должен!.. Я на этих днях отправлюсь в армию, Полина, — продолжал Рославлев, подойдя к своей невесте. — Вот письмо, которое я сейчас получил от приятеля моего Зарецкого. Прочтите его. Мы должны расстаться. — Как, сударь! — вскричала Лидина. — Так вы решительно хотите вступить в военную службу? — Читайте, Полина! — продолжал Рославлев, — и скажите вашей матушке, могу ли я поступить иначе. Полина начала читать письмо. Грудь ее сильно волновалась, руки дрожали; но, несмотря на это, казалось, она готова была перенести с твердостию ужасное известие, которое должно было разлучить ее с женихом. Она дочитывала уже письмо, как вдруг вся помертвела; невольное восклицание замерло на посиневших устах ее, глаза сомкнулись, и она упала без чувств в объятия своей сестры. С воплем отчаяния бросилась Лидина к своей дочери. — Chere enfant!.. — вскричала она, — что с тобой сделалось?.. Ах, она ничего не чувствует!.. Полюбуйтесь, сударь!.. вот следствия вашего упрямства... Полина, друг мой!.. Боже мой! она не приходит в себя!.. Нет, вы не человек, а чудовище!.. Стоите ли вы любви ее!.. О, если б я была на ее месте!.. Ah, mon dieu! (Ах, бог мой! (фр.)) она не дышит... она умерла!.. Подите прочь, сударь, подите!.. Вы злодей, убийца моей дочери!.. — Успокойтесь, сударыня! — сказал Сурской. — Посмотрите, она приходит в себя. Это пройдет. — Ах, если б прошла и любовь ее к этому человеку! — перервала Лидина, взглянув на убитого горестию Рославлева. Полина открыла глаза, поглядела вокруг себя довольно спокойно; но когда взор ее остановился на письме, которое замерло в руке ее, то она вскрикнула и, подавая его торопливо Оленьке, сказала: — Прочти, мой друг, прочти! — Не печалься, мой ангел! — сказала Лидина, — он не поедет. — Нет, маменька, — отвечала твердым голосом Полина, — он не должен и не может остаться с нами. Оленька, читая письмо, не могла также удержаться от невольного восклицания. — Поедемте скорей домой, маменька, — сказала она. — Вы видите, как Полина расстроена: ей нужен покой. А вы, Владимир Сергеевич, через час или через два приезжайте к нам. Поедемте! Лидина, уезжая с своими дочерьми, сказала в гостиной несколько слов жене предводителя, та шепнула своей приятельнице Ильменевой, Ильменева побежала в беседку рассказать обо всем своему мужу, и чрез несколько минут все гости знали уже, что Рославлев едет в армию и что мы деремся с французами. — Ну, господа! — сказал исправник, — теперь таиться нечего: ведь и его превосходительство за этим изволил ускакать в губернский город. — Так вот что! — вскричал хозяин. — Верно, рекрутской набор? — Какой рекрутской набор! Осмелюсь доложить, того и гляди, что поголовщина будет. — Добрался-таки до нас этот проклятый Бонапартий! — сказал Буркин. — Чего доброго, он этак, пожалуй, сдуру-то в Москву полезет. — А что ты думаешь? — примолвил Ижорской, — его на это станет. — Избави господи! — воскликнул жалобным голосом Ладушкин. — Что с нами тогда будет? — А что бог велит, — подхватил Буркин. — Живые в руки не дадимся. Поголовщина, так поголовщина! — Да, — прибавил предводитель, — если французы не остановятся на границе, всеобщее ополчение необходимо. — Помилуйте! — сказал Ладушкин, — что мы, с кулаками, что ль, пойдем? — Да с чем попало, — отвечал Буркин. — У кого есть ружье — тот с ружьем; у кого нет — тот с рогатиной. Что в самом деле!.. Французы-то о двух, что ль, головах? Дай-ка я любого из них хвачу дубиною по лбу — небось не встанет. — Я не думаю, однако ж, чтоб французы решились идти в средину России, — заметил предводитель. — Карл Двенадцатый испытал под Полтавою, как можно в одно сражение погубить всю свою военную славу. — Да ведь Наполеон тащит за собой всю Европу, — подхватил Ижорской. — Нет, господа, он доберется и до Москвы. — А мы его встретим, — примолвил Буркин, — да зададим такой банкет, что ему и домой не захочется. — Воля ваша, — сказал со вздохом Ладушкин, — а тяжко нам будет! Я помню милицию: чего нам, дворянам, стоило одеть, обуть да прокормить этих ратников. — Да, брат Ладушкин! — закричал Буркин, — починай свою кубышку-то. Ведь денег у тебя накоплено не по-нашему. — Помилуйте! Да откудова? — Чего тут миловать — распоясывайся, любезный. — Конечно, как велят... — Велят!.. плохой ты, брат, дворянин! Чего тут дожидаться приказу — сам давай! Господи боже мой! мы, что ль, русские дворяне, не живем припеваючи? А пришла беда, так и в куст?.. Сохрани владыко!.. Последнюю денежку ставь ребром. — — Конечно! — сказал хозяин. — Если понадобятся ратники, так я и музыкантов моих не пожалею... А народ-то, братцы, какой!.. Наметанный, лихой — пострелы! Любой на пушку полезет! — А я, — заревел Буркин, — всем моим конным заводом бью челом его царскому величеству. Изволь, батюшка государь, бери да припасай только людей, а уж эскадрон лихих гусар поставим на ноги. — Как? — спросил Ижорской, — ты отдашь и персидского жеребца? — Султана?.. и его отдам!.. Нет, Николай Степанович, нет! На нем сам пойду под француза. Умирать — так умирать обоим вместе! — Я уверен, — сказал предводитель, — что все дворянство нашей губернии не пожалеет ни достояния своего, ни самих себя для общего дела. Стыд и срам тому, кто станет думать об одном себе, когда отечество будет в опасности. — Да, да, стыд и срам! — повторили все, не исключая Ладушкина, который, увлеченный примером других, позабыл на минуту о своей шкатулке. — Кто не может идти сам, — прибавил Буркин, — так пусть отдаст все, что у него есть. — Аминь! — закричал Ижорской. — Ну-ка, господа, за здравие царя и на гибель французам! Гей, малый! Шампанского! — Нет, братец, — перервал Буркин, — давай наливки: мы не хотим ничего французского. — В том-то и дело, любезный! — возразил хозяин. — Выпьем сегодня все до капли, и чтоб к завтрему в моем доме духу не осталось французского. — Нет, Николай Степанович, пей кто хочет, а я не стану — душа не примет. Веришь ли богу, мне все французское так опротивело, что и слышать-то о нем не хочется. Разбойники!.. Дворецкой вошел с подносом, уставленным бокалами. — Налей ему, Парфен! — закричал хозяин. — Добро, выпей, братец, в последний раз... — Эх, любезный!.. Ну, ну, так и быть; один бокал куда ни шел. Да здравствует русской царь! Ура!.. Проклятый напиток; хуже нашего кваса... За здравие русского войска!.. Подлей-ка, брат, еще... Ура! — Да убирайся к черту с рюмками! — сказал хозяин. — Подавай стаканы: скорей все выпьем! — И то правда! — подхватил Буркин, — пить, так пить разом, а то это скверное питье в горле засядет. Подавай стаканы!.. ГЛАВА III Двести лет царство русское отдыхало от прежних своих бедствий; двести лет мирный поселянин не менял сохи своей на оружие. Россия, под самодержавным правлением потомков великого Петра, возрастала в силе и могуществе; южный ветер лелеял русских орлов на берегах Дуная; наши волжские песни раздавались в древней Скандинавии; среди цветущих полей Италии и на вершинах Сент-Готарда сверкали русские штыки: мы пожинали лавры в странах иноплеменных; но более столетия ни один вооруженный враг не смел переступить за границу нашего отечества. И вдруг раздался гром оружия на западе России, и прежде чем слух о сем долетел до отдаленных ее областей, древний Смоленск был уже во власти Наполеона. Случалось ли вам, проснувшись в полночь, прислушиваться недоверчиво к глухим раскатам отдаленного грома и, видя над собой светлое небо, усеянное звездами, засыпать снова с утешительною мыслию, что вам послышалось, что это не гроза, а воет ветер в соседней дубраве? Точно то же было с большею частию русских. «Французы в России!.. Нет, это невозможно! это пустые слухи!..» — говорили жители низовых городов и, на минуту встревоженные этим грозным известием, обращались спокойно к обыкновенным своим занятиям. Но слова того, кто один мог возбудить ото сна дремлющую Россию, пронеслись от берегов Вислы во все края обширной его империи. «Так! французы в России!.. Я не положу оружия, — сказал он, — доколе ни единого неприятеля не останется в царстве моем...» — и миллионы уст повторили слова царя русского! Он воззвал к верному своему народу. «Да встретит враг, — вещал Александр, — в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном — Палицына, в каждом гражданине — Минина...» — и все русские устремились к оружию. «Война!» — воскликнул весь народ, и потомки бесстрашных славян, как на брачное веселье, потекли на сей кровавый пир всей Европы. О, как велик, как благороден был этот общий энтузиазм народа русского! В каком обширном объеме повторилось то, что два века тому назад извлекало слезы умиления и восторга из глаз всех жителей нижегородских. Не малочисленный враг был в сердце России, не граждане одного города поклялись умереть за свободу своей родины, — нет! первый полководец нашего времени, влеча за собой силы почти всей Европы, шел, по собственным словам его, раздавить Россию. Но двести лет назад отечество наше, раздираемое междоусобием, безмолвно преклоняло сиротствующую главу под ярем иноплеменных; а теперь бесчисленные голоса отозвались на мощный голос помазанника божия; все желания, все помышления слились с его волею. Русские восстали, и приговор всевышнего свершился над сей главой, обремененной лаврами и проклятиями вселенной. Могучий, непобедимый, он ступил на землю русскую — и уже могила его была назначена на уединенной скале безбрежного океана! Кто опишет с должным беспристрастием эту ужасную борьбу России с колоссом, который желал весь мир иметь своим подножием, которому душно было в целой Европе? Мы слишком близки к происшествиям, а на все великое и необычайное должно смотреть издалека. Увлекаясь современной славой Наполеона, мы едва обращаем взоры на самих себя. Нет, для русских 1812-го года и для Наполеона — потомство еще не наступило! После упорного и кровопролитного сражения под Смоленском, бывшего 5 числа августа, наши войска стали отступать к Доргобужу. Направление большой неприятельской армии доказывало решительное намерение Наполеона завладеть древней столицею России; и в то время как войска наши, под командою храброго графа Витгенштейна, громили Полоцк и истребляли корпус Удино, угрожавший Петербургу, Наполеон быстро подвигался вперед, 13-го числа августа он был уже в Доргобуже. Несколько часов сряду наш арьергард удерживал стремление неприятеля; наступающая ночь прекратила наконец военные действия; пушечные выстрелы стали реже, и стрелки обеих армий, протянув передовые цепи, присоединились к своим колоннам. Русской арьергард расположился биваками по большой Московской дороге, в двух верстах от Доргобужа. Запылал длинный ряд огней, и усталые воины уселись вокруг артельных котлов, в которых варилась сытная русская каша. Подле одного ярко пылающего костра, прислонив голову к высокому казачьему седлу, лежал на широком потнике молодой офицер в белой кавалерийской фуражке; небрежно накинутая на плеча черкесская бурка не закрывала груди его, украшенной Георгиевским крестом; он наигрывал на карманном флажолете французской романс: «Jeune Troubadour» («Юный трубадур» (фр.)), и, казалось, все внимание его было устремлено на то, чтоб брать чище и вернее ноты на этой музыкальной игрушке. Рядом с ним сидел другой офицер в сюртуке, с золотым аксельбантом; он смотрел пристально на медный чайник, который стоял на углях, но, вероятно, думал совершенно о другом, потому что вовсе не замечал, что чай давно кипел и несколько уже раз начинал выливаться из чайника. — Рославлев! — сказал офицер в бурке, перестав играть на своем флажолете, — каково я кончил это колено? а?.. Ну, что ты молчишь, Владимир! Да проснись, душенька! — Что ты, братец? — спросил Рославлев, не глядя на своего товарища, в котором читатели, вероятно, узнали уже приятеля его, Зарецкого. — Я, mon cher? Ничего! да с тобой-то что делается? Неудивительно, что ты оглох; мне и самому ка-жется, что от сегодняшней проклятой канонады я стал крепок на ухо; но отчего ты ослеп?.. Гляди, гляди!.. Да что ж ты смотришь, братец? Ведь чай уйдет. Рославлев, не отвечая ничего, отодвинул чайник от огня. Зарецкой вынул из вьюка сахар, два серебряных стакана, фляжку с ромом, и через минуту горячий пунш был готов. Подавая один стакан своему приятелю, Зарецкой сказал: — Ну-ка, Владимир, запей свою кручину! Да полно, братец, думать о Полине. Что в самом деле? Убьют, так и дело с концом; а останешься жив, так самому будет веселее явиться к невесте, быть может, с подвязанной рукой и Георгиевским крестом, к которому за сраженье под Смоленском ты, верно, представлен. — Ах, Александр, вот уже более месяца, как я расстался с нею! Не знаю, получает ли она мои письма, но я не имею о ней никакого известия. — Да, мой друг, это ужасно! Мы сами не знаем поутру, где будем вечером; а ты хочешь, чтоб она знала, куда адресовать свои письма, и чтоб они все до тебя доходили. Ах ты, чудак, чудак! — Но если и мои письма пропадают? Если она думает, что я убит? — А реляции-то на что, мой друг? Дерись почаще так, как ты дрался сегодня поутру, так невеста твоя из каждых газет узнает, что ты жив. Это, мой друг, одна переписка, которую теперь мы можем вести с нашими приятелями. А впрочем, если она будет думать, что тебя убили, так и это не беда; больше обрадуется и крепче обнимет, когда увидит тебя живого. — Но почему ты думаешь, что одна эта мысль не убьет ее? — Почему, почему... во-первых, потому, что с горя не умирают; во-вторых... — Ты но знаешь моей Полины, Александр. Одно известие, что я снова иду в военную службу, едва не стоило ей жизни. Она прочла письмо твое... — А, так она его читала? Не правда ли, что оно бойко написано? Я уверен был вперед, что при чтении этого красноречивого послания русское твое сердце забьет такую тревогу, что любовь и места не найдет. Только в одном ошибся: я думал, что ты прежде женишься, а там уж приедешь сюда пировать под картечными выстрелами свою свадьбу: по крайней мере я на твоем месте непременно бы женился. — Что ж делать, мой друг! Мать Полины не хотела об этом и слышать. Я должен был или не вступать в службу, или решиться остаться женихом до окончания войны. — Ну, mon cher, хороша же твоя будущая маменька! Я знал, что она самая бонтонная барыня, парижанка, что от нее требовать большого патриотизма не можно; но, право не полагал... Ах, знаешь ли что? ведь она живет в деревне?.. Ну, так и есть! Бедняжка и не подозревает, что в столицах тон совершенно переменился, Если б она знала, в какой теперь моде патриотизм, то верно бы не стала с тобой торговаться. Ты не можешь себе представить, как все переменилось в Петербурге: французской театр закрыли, и — ни одна русская барыня не охнула. Все наши дамы в таком порядке, что любо посмотреть: с утра до вечера готовят для нас корпию и перевязки; по-французски не говорят, и даже родственница твоя, княгиня Радушна, — поверишь ли, братец? — прескверным русским языком вот так французов и позорит. — Слава богу! мы догадались наконец, что у нас есть отечество и свой собственный язык. — О, что касается до нашего языка, то, конечно, теперь он в моде; а дай только войне кончиться, так мы заболтаем пуще прежнего по-французски. Язык-то хорош, мой милый! ври себе что хочешь, говори сущий вздор, а все кажется умно. Но я перервал тебя. Итак, твоя Полина, прочтя мое письмо... — Слегла в постелю, мой друг; и хотя после ей стало легче, но когда я стал прощаться с нею, то она ужасно меня перепугала. Представь себе: горесть ее была так велика, что она не могла даже плакать; почти полумертвая она упала мне на шею! Не помню, как я бросился в коляску и доехал до первой станции... А кстати, я тебе еще не сказывал. Ты писал ко мне, что взял в плен французского полковника, графа, графа... как бишь? — Сеникура. — Да; ведь я с ним повстречался верстах в тридцати от моей деревни. В то время как я переменял лошадей, привезли его и несколько других пленных офицеров на почтовый двор. Зная твое пристрастие к французам, я не очень тебе верил; но, признаюсь, на этот раз твои похвалы были даже слишком умеренны. Подлинно молодец!.. Разрубленная голова его была вся в перевязках, и, несмотря на это, я не мог налюбоваться на его прекрасную и благородную физиономию. Когда я узнал, что он тот самый полковник, которого ты угощал на своем биваке, то, разумеется, стал его расспрашивать о тебе, и хотя от боли и усталости он едва мог говорить, но отвечал весьма подробно на все мои вопросы. Положение его было ужасно: он чувствовал сильную лихорадку, которая могла превратиться в смертельную болезнь, если б его оставили без помощи. Я уговорил конвойного офицера сдать его на руки капитан-исправнику, который по моей просьбе взялся отвезти его в деревню к будущей моей теще. В нашем уездном городке было бы ему несравненно хуже. — Разумеется. Да знаешь ли что? Я позабыл к тебе написать. Кажется, он знаком с семейством твоей Полины; по крайней мере он мне сказывал, что года два тому назад, в Париже, познакомился с какой-то русской барыней, также Лидиной, и ездил часто к ней в дом. Тогда он был еще женат. — Так он вдовец? — Да, жена его умерла за несколько месяцев до этой кампании. Но кой черт?.. что это? Над головою Зарецкого прожужжала пуля; вслед за нею свистнула в двух шагах другая. — Что это? Французы с ума сошли! — сказал Рославлев. — Да в кого они стреляют?.. Ну, видно, у них много лишнего пороху. — Это шалят на цепи, — перервал Зарецкой, — и, верно, задирают наши. Пойдем, братец! — продолжал он, вставая, — посмотрим, что там эти озорники делают. Отойдя несколько шагов от своего бивака, они подошли к мелкому кустарнику, в котором протянута была наша передовая цепь; шагах в пятидесяти от нее стояли французские часовые; позади их пылали огни неприятельского авангарда, а вдали, вокруг Доргобужа, по всему пространству небосклона расстилалось широкое зарево. В неприятельском авангарде было все тихо; но там, где бесчисленные огни сливались в одну необозримую пламенную полосу, гремела музыка и от времени до времени раздавались веселые крики пирующего неприятеля. Когда они подошли к передовой цепи, то все уже опять успокоилось. Почти все часовые, расставленные попарно в близком расстоянии друг от друга, наблюдали глубокое молчание. Ночь была пасмурна, и серые шинели солдат сливались совершенно с темной зеленью кустов, среди которых они стояли. Изредка только неприятельские огни отражались на блестящих штыках их ружьев и вызывали французских часовых на перестрелку, почти всегда бесполезную, но которая не менее того тревожила иногда всю передовую линию нашего арьергарда. Несколько уже минут Зарецкой и Рославлев шли вдоль цепи, не говоря ни слова. Вдруг Зарецкой приложил к губам палец и сказал шепотом Рославлеву. — Тс! тише, братец! — Что ты? — спросил Рославлев также вполголоса. — Постой!.. Так точно... вот, кажется, за этим кустом говорят меж собой наши солдаты... пойдем поближе. Ты не можешь себе представить, как иногда забавны их разговоры, а особливо когда они уверены, что никто их не слышит. Мы привыкли видеть их во фрунте и думаем, что они вовсе не рассуждают. Послушай-ка, какие есть между ними политики — умора, да и только! Но тише!.. Не шуми, братец! Они подошли потихоньку к двум часовым, которые, опираясь на свои ружья, вполголоса разговаривали между собою. — Смотри-ка, брат? — сказал один из них, — Ну что за народ эти французы, и огонька-то разложить порядком не умеют. Видишь — там, какой костер запалили?.. Эк они навалили бревен-то, проклятые! — Да ведь лес-то не их, братец, — отвечал другой часовой, — так чего им жалеть? — Как чего? Не все ж им идти вперед: пойдут назад; а как теперь все выжгут, так и самим после будет жутко. — Да что это, Федотов, мы всё идем назад, а они вперед?.. — Видно, так надобно. — Уж нет ли, брат, измены какой?.. — Нет, братец! ты этого дела не смыслишь: мы ратируемся. — Вот что! — Ну да! пусть себе идут вперед. Теперь они сгоряча так и лезут, а как пройдут сотенки три, четыре верст, так уходятся. Ну, знаешь, отсталых будет много, по сторонам разбредутся, а мы тут-то и нагрянем. Понимаешь? — То есть врасплох?.. Разумею. А что, Федотов, ведь надо сказать правду: эти французы бравые ребята. Вот хоть сегодня, досталось нам на орехи: правда, и мы пощелкали их порядком, да они себе и в ус не дуют! Ах, черт побери! Что за диковинка! Люди мелкие, поджарые, ну взглянуть не на что, а как дерутся!.. — Да, братец, конечно; народ азартной, а несдобровать им. — Право? — Уж я тебе говорю. Да и чему быть?.. Порядку вовсе нет. Я бывал у них в полону, так насмотрелся. Ну уж вольница! В грош не ставят своих командиров, а перед фельдфебелем и фуражки не ломают. Наш брат не спрашивает зачем то, зачем другое? Идет, куда ведут, да и дело с концом; а они так нет: у всякого свой царь в голове; да добро бы кто-нибудь? а то иной барабанщик, и тот норовит своего генерала за пояс заткнуть. А уж скорохваты какие... батюшки светы! Алон, алон! (Вперед, вперед! (фр.)) вот так сначала и задорятся! И что говорить, конечно, накоротке хоть кого оборвут, а как дело пойдет в оттяжку, так нет, брат, не жди пути!.. — Правда ли, Федотов, — сегодня наши ребята болтали, что Англия с нами? — Говорят, так. Вот это, братец, народ! — А ты почему знаешь? — Я еще, любезный, до солдатства был о моим барином в их главном городе. Ну, городок! больше Москвы, народ крупный, здоровый; постоит за себя! А как, брат, дерутся в кулачки, так я тебе скажу!.. У барина был там другой слуга, из тамошних; он мараковал немного по-русски, так все мне показывал и толковал. Вот однажды повел он меня в их суд — уж нагляделся я! Все, знаешь, сидят так чинно, а судьи говорят. Товарищ мне все по-нашему пересказывал. Вот вдруг один судья — такой растрепанный — встал и сказал: «Быть войне». Как вскочит другой судья да закричит: «Так врешь, не быть войне». И пошли и пошли! то тот, то другой; уж они говорили, говорили, а другие-то все слушают да вдруг нет-нет и закричат: «Гир, гир, гир!» (Слушайте, слушайте! (от англ. heard.)) Знатно, братец! — Куда ты, брат Федотов, всего нагляделся, подумаешь! — Да, любезный, дело бывалое; и там и сям, и в других прочих землях бывали; кому другому, а нам не в диковинку... ходили в поход и в Немецию, То-то сытная земля и народ ласковый! Поразговоришься с хозяином, так все даст. Бывало, войдешь в избу: «Ну здравствуй, камарад!» (Товарищ! (нем.)) Он заговорит по-своему; ты скажешь: «Добре, добре!» — а там и спросишь: бруту, биру (хлеба, пива (от нем. Brot, Bier)), того, другого; станет отнекиваться, так закричишь: «Капут!» Вот он тотчас и заговорит: «Русишь гут!», а ты скажешь: «Немец гут!» — дело дойдет до шнапсу, и пошли пировать. Захотелось выпить по другой, так покажешь на рюмку да скажешь: «Нох!» (Еще (от нем. noch.)) — ан глядишь: тебе и подают другую; ведь язык-то их не мудрен, братец! — Так ты по-немецкому-то знаешь? — Мало ли что мы знаем! Эх, Ваня! как бы не чарочка сгубила молодца, так я давно бы был уж унтером. — Постой-ка, Федотов! — сказал другой часовой, поднимая свое ружье. — Посмотри, что это там за французской цепью против огонька мелькнуло? Как будто б верховой... вон опять!.. видишь? — Вижу, — отвечал Федотов. — Какой-нибудь французской офицер объезжает передовую цепь. — Не спешить ли его? — шепнул второй часовой, взводя курок. — Погоди, погоди!.. Его. опять не видно. Что даром-то патроны терять! Дай ему поравняться против огонька. Чрез полминуты кавалерист в драгунской каске, заслонив собою огонь ближайшего неприятельского бивака, остановился позади французской цепи, и всадник вместе с лошадью явственно отпечатались на огненном поле пылающего костра. — Ну вот, теперь! — сказал, прикладываясь, второй часовой. — Постой, постой, братец! Спугнешь! — перервал Федотов. — Ты и в мишень плохо попадаешь; дай-ка мне! — Ну, ну, стреляй! посмотрим твоей удали. Федотов прицелился; вдруг смуглые лица обоих солдат осветились, раздался выстрел, и неприятельской офицер упал с лошади. — Ай да молодец! — сказал Зарецкой, сделав шаг вперед; но в ту ж самую минуту вдоль неприятельской линии раздались ружейные выстрелы, пули засвистали меж кустов и кто-то, схватив за руку Рославлева, сказал: — Не стыдно ли тебе, Владимир Сергеевич, так дурачиться? Ну что за радость, если тебя убьют, как простого солдата? Офицер должен желать, чтоб его смерть была на что-нибудь полезна отечеству. — Кто вы? — спросил с удивлением Рославлев. — Ваш голос мне знаком; но здесь так темно... — Пойдем к твоему биваку. Наши приятели, не говоря ни слова, пошли вслед за незнакомым. Когда они стали подходить к огням, то заметили, что он был в военном сюртуке с штаб-офицерскими эполетами. Подойдя к биваку Зарецкого, он повернулся и сказал веселым голосом: — Ну, теперь узнаешь ли ты меня? — Возможно ли! Это вы, Федор Андреевич? — вскричал с радостию Рославлев, узнав в незнакомом приятеля своего, Сурского. — Ну, вот видишь ли, мой друг! — продолжал Сурской, обняв Рославлева, — я не обманул тебя, сказав, что мы скоро с тобой увидимся. — Так вы опять в службе? — Да, я служу при главном штабе. Я очень рад, мой друг, что могу первый тебя поздравить и порадовать твоих товарищей, — прибавил Сурской, взглянув на офицеров, которые толпились вокруг бивака, надеясь услышать что-нибудь новое от полковника, приехавшего из главной квартиры. — Поздравить? с чем? — спросил Рославлев. — С Георгиевским крестом. Я сегодня сам читал об этом в приказах. Но прощай, мой друг! Мне надобно еще поговорить с твоим генералом и потом ехать назад. До свиданья! надеюсь, мы скоро опять увидимся. Казалось, эта новость обрадовала всех офицеров; один только молодой человек, закутанный в короткой плащ без воротника, не поздравил Рославлева; он поглаживал свои черные, с большим искусством закрученные кверху усы и не старался нимало скрывать насмешливой улыбки, с которою слушал поздравления других офицеров. — Посмотри, братец, — шепнул Зарецкой своему приятелю, — как весело князю Блесткину, что тебе дали «Георгия»; у него от радости язык отнялся. — И, Александр! — отвечал вполголоса Рославлев. — Какое мне до этого дело! — Куда, подумаешь, как зависть безобразит человека: он недурен собою, а смотри, какая теперь у него рожа. — Да что тебе за охота рассматривать физиономию этого фанфарона? — Постой, братец, я пойду поговорю с ним вместе. Что ты так нахмурился, князь? — продолжал Зарецкой, подойдя к офицеру, закутанному в плаще. — Кто? я? — сказал князь Блесткин. — Ничего, братец, так!.. — Уж не досадно ли тебе? — Что такое?.. Вздор какой! Я думал только теперь, как выгодно быть в военное время адъютантом. — Право? — Как же, братец! Адъютант может дать при случае весьма полезный совет своему генералу; например: не стоять под картечными выстрелами; а как за полезный совет дают «Георгия»... — То ты, верно, его получишь, — перервал Зарецкой. — Ступай скорее в адъютанты. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил гордо Блесткин. — А то, что Роелавлев не советовал, а дрался и под Смоленском ходил в атаку с полком, в котором ты служишь. — Я что-то этого не помню. — Да как тебе помнить? Ты в начале сражения получил контузию и лежал замертво в обозе. — Послушай, Зарецкой! этот насмешливый тон!.. Ты знаешь, я шуток не люблю. — Как не знать? Ведь ты ужасный дуэлист. — Я надеюсь, никто не осмелится сказать... — Чтоб ты не был прехрабрый офицер? Боже сохрани! Я скажу еще больше: ты ужасный патриот и так сердит на французов, что видеть их не хочешь. — Полноте, господа, остриться, — перервал бригадный адъютант Вельской, который уже несколько времени слушал их разговор. — А седлайте-ка лошадей: сейчас в поход. — Вот тебе и раз! — вскричал Рославлев, — а мы не успели и поужинать. — Ох, этот фанфаронишка! — сказал вполголоса Зарецкой. — Как бы я желал поговорить с ним в восьми шагах... — Перестань, братец! Как тебе не стыдно? — перервал Роелавлев. — Разве в военное время можно думать о дуэлях? Все офицеры, кроме Блесткина, разошлись по своим бивакам. — Вы шутите очень забавно, — сказал он, — подойдя к Зарецкому, — но я не желал бы остаться у вас в долгу... — А что угодно вашему сиятельству? — спросил с низким поклоном Зарецкой. — Кажется, этого пояснять не нужно... — А, понимаю! Вам угодно со мною драться? Извините, ваше сиятельство! теперь, право, некогда; после, если прикажете. — Расчет недурен! — сказал с презрительной улыбкою Блесткин, — то есть: вы подождете, пока меня убьют?.. — Помилуйте! Да этого век не дождешься. — Я презираю ваши глупые насмешки и повторяю еще раз, что если вы знаете, что такое честь, — в чем, однако ж, я очень сомневаюсь... Лицо Зарецкого вспыхнуло; он схватил Блесткина за руку; но Рославлев не дал ему выговорить ни слова. — Постойте, господа! — вскричал он. — Если уж непременно надобно кому-нибудь драться, так — извините, князь, — вы деретесь не с ним, а со мною. Ваши дерзкие замечания насчет полученной мною награды вызвали его на эту неприятность; но, так как я обижен прежде... — Нет, Владимир, — перервал Зарецкой, — я не уступлю тебе удовольствия — проучить этого обозного героя... — Фи, Александр! приличен ли этот тон между офицерами! — Но я хочу непременно... — После меня, Зарецкой; прошу тебя! — Позвольте мне прекратить этот великодушный. спор, — сказал насмешливо Блесткин. — Я начну с вас, господин Роcлавлев... но когда же? — При первом удобном случае. — То есть не прежде окончания кампании? — О, не беспокойтесь! это будет скорее, чем вы думаете. — Посмотрим, — сказал, уходя, Блесткин. — Не забудьте, однако ж, что я не люблю дожидаться и найду, может быть, средство поторопить вас весьма неприятным образом. — Наглец! — вскричал Зарецкой, схватившись за свою саблю. — И, полно, Александр! Не горячись! Ты увидишь, как я проучу этого фанфарона; а меж тем вели-ка седлать наших лошадей. Через несколько минут приказали снимать потихоньку передовую цепь; огни были оставлены на своих местах, и весь арьергард, наблюдая глубокую тишину, выступил в поход по большой Московской дороге. ГЛАВА IV 14-го числа августа наши войска, преследуемые неприятелем, шли почти не останавливаясь, целые сутки. По всем предположениям, большая русская армия должна была, несмотря на искусные маневры Наполеона, соединиться при Вязьме с молдавской армиею, которая спешила к ней навстречу, 15-го числа наш арьергард, в виду неприятельского авангарда, остановился при деревне Семехах. Позади одной русской колонны, прикрывавшей нашу батарею из шести полевых орудий, стоял, прислонясь к небольшому леску, гусарской эскадрон, которым командовал Зарецкой. С правой стороны, шагов сто от леса, в низких и поросших кустарником берегах извивалась узенькая речка; с полверсты, вверх по ее течению, видны были: плотина, водяная мельница и несколько разбросанных без всякого порядка изб. — Тьфу, пропасть, как я устал! — сказал Зарецкой, слезая с лошади. — Авось французы дадут нам перевести дух! — Вряд ли! — возразил краснощекой и видной собою гусарской поручик, слезая также с коня. — Мне кажется, они берут позицию. — Может быть, для того, чтоб отдохнуть; я думаю, они устали не меньше нашего. Да что ты так хмуришься, Пронской? — Чего, братец! Я вовсе исковеркан, точно разбитая лошадь: насилу на ногах стою. И эти пехотинцы еще нам завидуют! Попробовал бы кто-нибудь из них не сходить с коня целые сутки. — Кто это несется с правого фланга? — спросил Зарецкой, показывая на одного офицера, который проскакал мимо передовой линии на англезированной вороной лошади. — Хорош же ты, брат! — сказал с улыбкою Пронской, — не узнал своего приятеля: это князь Блесткин. — Ах, батюшки! Что он так суетится? — Так ты не знаешь? Наш бригадный генерал взял его к себе за адъютанта. — Право? Ну, не с чем поздравить его превосходительства! — Да и Блесткин, я думаю, не больно себя поздравляет: генерал-то вовсе не по нем — молодец! Терпеть не может дуэлистов; а под картечью раскуривает трубку да любит, чтоб и адъютанты его делали то же. — Эй, Зашибаев! — вскричал Зарецкой, — подержи мою лошадь; а ты, Пронской, побудь при эскадроне: я пойду немного вперед и посмотрю, что там делается. Широкоплечий вахмистр принял лошадь Зарецкого, который, пройдя шагов сто вперед, подошел к батарее. Канонеры, раздувая свои фитили, стояли в готовности подле пушек, а командующий орудиями артиллерийской поручик и человека три пехотных офицеров толпились вокруг зарядного ящика, из которого высокий фейерверкер вынимал манерку с водкою, сыр и несколько хлебов. — Милости просим! — сказал один толстой офицер в капитанском знаке. — Не хочешь ли выпить и закусить? — А, это ты, Зарядьев? — отвечал Зарецкой. — Пожалуй, как не закусить! Да ты что тут хозяйничаешь? Помилуй, Ленской! — продолжал он, обращаясь к артиллерийскому офицеру, — за что он меня твоим добром потчевает? — Нет, не его, а моим, — перервал Зарядьев. — Я бился с ним о завтраке — и выиграл. Он спорил со мной, что мы здесь остановимся. — А почему ты думал, что должны мы здесь остановиться? — Да посмотри-ка, какая славная позиция! Речка, лесок, кустарник для стрелков. Небось французы не вдруг сунутся нас атаковать, а мы меж тем отдохнем. — Вряд ли! — сказал Зарецкой, покачивай головою. — Посмотри, как они там за речкой маневрируют... Вон, кажется, потянулась конница... а прямо против нас... Ну, так и есть. Они ставят батарею, — Зато взгляни направо к мельнице... Видишь, задымился огонек? — Так что ж? — А то, что они сбираются не атаковать нас, а отдохнуть и пообедать, а пока они готовят свой суп, и наши ребята успеют сварить себе кашицу. Ну-ка, брат, выпей! — Так ты думаешь, Зарядьев, что эту манерку из руки у меня ядром не вышибет? — Небось, пей на здоровье! — Слышали ль, господа! — сказал Ленской, — что князь Блесткин попал в адъютанты к нашему бригадному командиру? — Как же! — отвечал Зарядьев, — он и прежде не хотел говорить с нашим братом, а теперь, чай, к нему и доступу не будет. — Да как это ему вздумалось? — продолжал Ленской. — Не знаю, у кого другого, а у нашего генерала шарканьем не много возьмешь, Да вот, кажется, его сиятельство сюда скачет. Ну, легок на помине! — Господа офицеры! — сказал Блесткин, подскакав к батарее, — его превосходительство приказал вам быть в готовности, и если французы откроют по вас огонь, то сейчас отвечать. — Слушаю. — Мне кажется, — продолжал Блесткин, посмотрев с важностию вокруг себя, — зарядные ящики стоят слишком близко от орудий. — Это уже не ваша забота, господин Блесткин! — отвечал хладнокровно Ленской, повернясь к нему спиною. — О! если так, — вскричал Блесткин с гордостию, — то я доложу генералу... — В самом деле? — перервал Ленской. — Доложите ему, что его адъютант мешается там, где его не спрашивают. — Господин офицер! я советую вам... — Напрасно беспокоитесь, ваше сиятельство! — подхватил Зарецкой. — Ведь за этот совет вам «георгия» не дадут. Блесткин побледнел от досады; но, не отвечая ни слова, пришпорил свою лошадь и поскакал далее. — Эх, Ленской! — сказал толстый капитан, — что ты не дал ему побариться? Тебя бы от этого не убыло, а мы бы посмеялись. — Прошу покорно! — перервал Ленской, — вздумал меня учить! И добро бы знал сам службу... — Верно не знает! — подхватил Зарядьев. — Вот года три тому назад ко мне в роту попал такой же точно молодчик — всех так и загонял! Бывало, на словах города берет, а как вышел в первый раз на ученье, так и язык прилип к гортани. До штабс-капитанского чина все в замке ходил. — Поглядите-ка, господа! — сказал Ленской, — что там за речкою делается? Французы что-то больно зашевелились. Вдруг густое облако дыма закрутилось на противуположном берегу; окрестность дрогнула, и одно ядро с визгом пронеслось над головами наших офицеров. — Ну что, Зарядьев, — сказал Зарецкой, — видно, французы уж отобедали? — По местам, господа! — закричал Зарядьев пехотным офицерам, которые спокойно завтракали, сидя на пушечном лафете. — Зарецкой, — продолжал он, — пойдем к нам в колонну — до вас еще долго дело не дойдет. — Через орудие — ядрами! — скомандовал громким голосом Ленской. — Живей, ребята! Зарецкой и Зарядьев подошли к колонне; капитан стал на свое место. Ударили поход. Одна рота отделилась от прикрытия, выступила вперед, рассыпалась по кустам вдоль речки, и с обеих сторон началась жаркая ружейная перестрелка, заглушаемая по временам неприятельской и нашей канонадою, которая становилась час от часу сильнее. — Ну, видно, мы сегодня поработаем! — заметил Зарядьев. — Посмотрите-ка вперед, какие тянутся густые колонны по большой дороге. — Здравствуй, Александр! — сказал Рославлев, подъехав к Зарецкому. — Что ты здесь делаешь? — Да так, братец! пришел посмотреть. Мой эскадрон стоит вон там, подле леса, откуда ничего не видно. А ты как сюда попал? — Ездил с приказаниями на правый фланг. Кажется, дело будет не на шутку. — А что? — Приказано не только удерживать позицию, но перебросить через речку наших стрелков и стараться всячески опрокинуть первую неприятельскую линию. — Слава богу! насилу-то и мы будем атаковать. А то, поверишь ли, как надоело! Toujours sur la defensive (Всегда в обороне (фр.)) — тоска, да и только. Ого!.. кажется, приказание уж исполняется?.. Видишь, как подбавляют у нас стрелков?.. Черт возьми! да это батальный огонь, а не перестрелка. Что ж это французы не усиливают своей цепи?.. Смотри, смотри!.. их сбили... они бегут... вон уж наши на той стороне... Ай да молодцы! — Вся колонна вперед — марш! — скомандовал полковник. — Ну, прощай покамест, Александр! — сказал Рославлев. — Что за прощай, братец! До свиданья! Куда ты? — На левый фланг, к моему генералу. Вся наша передовая линия подалась вперед; батареи также подвинули, и сражение закипело с новой силою. — Ну, какая идет там жарня! — сказал Зарядьев, смотря на противуположный берег речки, подернутый густым дымом, сквозь которого прорывались беспрестанно яркие огоньки. — Ненадолго наших двух рот станет. Да что с тобой, Сицкой, сделалось? — продолжал он, обращаясь к одному молодому прапорщику. — На тебе лица нет! Помилуй, разве ты в первый раз в деле? — Мой брат в стрелках! — отвечал молодой офицер. — Так что ж? — А наша рота еще нейдет. — Не беспокойся, дойдет дело и до вашей роты. — Но брат мой!.. — И, Сицкой! Бог милостив — воротится. — Вряд ли воротится, — перервал грубым голосом один высокой офицер с неприятной и даже отвратительной физиономиею. — Там что-то больно жарко. — В самом деле? Вы думаете?.. — спросил с беспокойством молодой офицер. — Да что за диковинка? Натурально, его убьют скорее в стрелках, чем меня здесь в колонне. — Как тебе не стыдно! — сказал вполголоса Зарядьев, — Ты знаешь, как он любит своего брата. — Вот еще какие нежности!.. У меня и двух братьев убили, да я... Высокой офицер не докончил начатой фразы: неприятельское ядро, вырвав два ряда солдат, раздробило ему череп. — Сомкнись! — скомандовал Зарядьев. Солдаты придвинулись друг к другу. Еще несколько ядер пролетело через колонну. — Эй, вы! — закричал Зарядьев, — стоять смирно! Ну! начали кланяться, дурачье! Тотчас узнаешь рекрут, — продолжал он, обращаясь к Зарецкому. — Обстрелянный солдат от ядра не пошевелится... Кто там еще отвесил поклон? — Нефедьев, ваше благородие! — отвечал унтер-офицер. — Так и есть — рекрут! Эй ты, Нефедьев! зачем нагибаешь голову? — Ядро, ваше благородие. — А какое тебе до него дело, болван? Чего ты боишься? — Убьет, ваше благородие! — Убьет, дуралей! Слушай команду, а убьет — не твоя беда, Ахти! никак, это ведут капитана третьей роты? Ну, видно, его порядком зацепило! Два солдата подвели к колонне офицера, обрызганного кровью; он едва мог переступать и переводил дух с усилием. — Вы ранены? — сказал полковник. — И, кажется, смертельно! — отвечал едва слышным голосом капитан. — Прикажите подкрепить наших стрелков: французы одолевают. — А что майор? — Убит. — А капитан Белов? — Убит. — А брат мой? — спросил робко Сицкой. — Убит. — Убит! — повторил молодой офицер, побледнев как смерть. С полминуты он молчал; потом вдруг глаза его засверкали, румянец заиграл в щеках; он оборотился к полковнику и сказал: — Степан Николаевич! сделайте милость — бога ради! позвольте мне в стрелки. — Хорошо, ступайте с первой ротою, — сказал полковник, взглянув с приметным состраданием на молодого офицера. — Вторая и первая рота — в стрелки! Зарядьев! вы примите команду над всей нашей цепью... Барабанщик — поход! — Становись! — скомандовал Зарядьев. — Да смотри, у меня в воробьев не стрелять! Метить в полчеловека! Перекрестись! Ну, ребята, с богом — марш! прощай, Зарецкой! — Прощай, братец! Я также отправляюсь к моему эскадрону. Может быть, и до нас дело скоро дойдет. Уже более пяти часов продолжалось сражение; несколько раз стрелки наши то сбивали неприятельскую цепь и дрались на противуположном берегу речки; то, прогоняемые на нашу сторону, продолжали перестрелку в нескольких шагах от колонн своих. Канонада не умолкала ни на минуту с обеих сторон; но наша и неприятельская конница оставались в бездействии. В то самое время, как Зарецкой начинал думать, что на этот раз эскадрон его не будет в деле, которое, по-видимому, не могло долго продолжаться, подскакал к нему Рославлев. — Ну, Александр! — сказал он, — с богом! Тебе ведено переправиться через речку и атаковать с фланга неприятельских стрелков. — Насилу о нас вспомнили!.. Фланкеры! осмотреть пистолеты! Сабли вон. — Ты должен прикрывать отступление стрелков третьей колонны, — продолжал Рославлев. — Им становится уж больно тяжело. Бедняжки дерутся часов пять сряду. — Жив ли наш приятель Зарядьев? Ведь он, кажется, ими командует? — А вот сейчас узнаю: я еду к нему с приказанием, чтоб он понемногу отступал к нашей передовой линии. Смотри, Александр, налети соколом, чтоб эти французы не успели опомниться и дали время Зарядьеву убраться подобру-поздорову на нашу сторону. — А вот что бог даст. По три налево заезжай — рысью марш! Зарецкой с своим эскадроном принял направо, а Рославлев пустился прямо через плотину, вдоль которой свистели неприятельские пули. Подъехав к мельнице, он с удивлением увидел, что между ею и мучным амбаром, построенным также на плотине, прижавшись к стенке, стоял какой-то кавалерийской офицер на вороной лошади. Удивление его исчезло, когда он узнал в этом храбром воине — князя Блесткина. — Что вы, сударь, здесь делаете? — спросил Рославлев, остановя свою лошадь. — Ах! это вы? — вскричал Блесткин с самой вежливой улыбкою. — Да, сударь, это я. А вы зачем здесь? — Меня послал генерал взглянуть, что делается в передовой цепи. — И вы для этого спрятались за этот амбар? Немного вы отсюда увидите. — Что ж мне делать с этой проклятой лошадью? — сказал Блесткин. — Она не хочет ни вперед идти, ни стоять на плотине. Он дал шпоры своему английскому жеребцу, который в самом деле запрыгал на одном месте и, казалось, не хотел никак отойти от стены. — Ну вот видите? — Да, я вижу, — перервал Рославлев, — что вы изо всей силы тянете ее за мундштук; но дело не в том: я очень рад, что вас встретил. Вы, кажется, вчера вызывали меня на дуэль? — Неужели?.. Может быть, я погорячился... но я, право, не помню. — Да я не забыл. Выезжайте, сударь, на плотину. — Помилуйте! что вы хотите делать? — Ничего. Я хочу вам показать, какого рода дуэли позволительны в военное время. Ну что ж? долго ли мне дожидаться? Да ослабьте поводья, сударь! она пойдет... Послушайте, Блесткин! Если ваша лошадь не перестанет упрямиться, то я сегодня же скажу генералу, как вы исполняете его приказания. — Однако ж, господин Рославлев, — сказал Блесткин, выехав на плотину, — позвольте вам заметить: этот начальнический тон... — Не о тоне речь, сударь. Вы посланы к стрелкам, я также: не угодно ли вам прогуляться со мною по нашей цепи. — Помилуйте! мы оба верхами. — Так что ж! — Все неприятельские стрелки станут в нас метить. — В том-то и дело. Ведь вы сами вызвали меня на дуэль. Правда, мы не будем стрелять друг в друга; но это ничего: за нас постараются французы. — Помилуйте, что это за дуэль? — Мне некогда вам доказывать, что этот поединок стоит того, который вы мне вчера предлагали. Извольте ехать. — Но, господин Рославлев... — Ни слова более! или я стану везде и при всех называть вас трусом. Мне кажется, ваша лошадь не очень боится шпор. Позвольте! — Рославлев ударил нагайкою лошадь Блесткина и выскакал вместе с ним на другой берег речки. Перед ними открылось обширное поле, усыпанное французскими и нашими стрелками; густые облака дыма стлались по земле; вдали, на возвышенных местах, двигались неприятельские колонны. Пули летали по всем направлениям, жужжали, как пчелы, и не прошло полминуты, одна пробила навылет фуражку Рославлева, другая оторвала часть воротника Блесткиной шинели. — Вперед, сударь, вперед! — кричал Рославлев, понукая нагайкою лошадь несчастного князя, который, бледный как полотно, тянул изо всей силы за мундштук. — Прошу не отставать; вот и наша цепь. Эй, служба! — продолжал он, подзывая к себе солдата, который заряжал ружье, — где капитан Зарядьев? — — Вон в этих кустах, ваше благородие! — Позови его сюда. А мы с вами, господин Блесткин остановимся здесь, на этом бугорке; отсюда и мы будем приметнее, и нам будет все виднее. — Помилуйте, Рославлев! — вскричал отчаянным голосом Блесткин, — за что же вы хотите сделать из нас цель для французов? — Ого, господин дуэлист! вы трусите? Постойте, я вас отучу храбриться некстати. Куда, сударь, куда? — продолжал Рославлев, схватив за повод лошадь Блесткина. — Я не отпущу вас, пока не заставлю согласиться со мною, что одни ничтожные фанфароны говорят о дуэлях в военное время. — Я не спорю... может быть... — Нет, постойте! не может быть; я вам докажу это. — Боже мой! посмотрите, в нас целят. — Так что ж? Пускай целят. Не правда ли, что порядочный человек и храбрый офицер постыдится вызывать на поединок своего товарища в то время, когда быть раненным на дуэли есть бесчестие?.. — Ну хорошо, положим, что правда... — Постойте! Не правда ли, что одному только фанфарону, не понимающему, что такое истинная храбрость, позволительно насмехаться над тем, кто отказывается от дуэли за несколько часов до сражения? — Конечно, конечно... я согласен... Боже мой! что это?.. — Ничего, это рикошетное ядро. Согласитесь, что тот, кто боится умереть в деле против неприятеля, ищет случая быть раненным на дуэли для того, чтоб пролежать спокойно в обозе во время сражения... Вдруг шагах в пяти от них раздался пронзительный свист; что-то запрыгало по пенькам и кочкам и обрызгало грязью обоих офицеров. — Это что такое? — вскричал с ужасом Блесткин. — Ничего, это картечь. Согласитесь, что Зарецкой должен был отвечать одним презрением на ваш вызов, что ему вовсе не нужно... — Ах, боже мой! я ранен! — вскричал Блесткин. — Ничего. Вам оцарапало только щеку и оторвало половину уха. Согласитесь, что Зарецкому вовсе не нужно было доказывать над вами свою храбрость, что он... — Ради бога, Рославлев!.. Я на все согласен... — Вот, кажется, идет Зарядьев? Ну, теперь вы можете ехать, только постарайтесь встречаться со мною как можно реже. Я вам скажу откровенно: вы мне гадки. Прощайте! Рославлев выпустил из рук поводья; Блесткин пришпорил свою лошадь и помчался, как из лука стрела, к нашим резервам. — Эге! — сказал Зарядьев, подойдя к Рославлеву, — кто это дал отсюда такого стречка? Посмотри-ка, словно птица летит. — Это Блесткин. — Нет, шутишь? И он здесь был вместе с тобою? Да разве его на аркане сюда притащили? — Разумеется, поневоле. Я расскажу тебе об этом на просторе, а теперь изволь-ка убираться отсюда с своими стрелками. — Да, нечего сказать, пора! Нас порядком поубавилось. Эй! барабанщик, сбор! — Много убито офицеров? — Да не осталось и половины. — А что этот молодой прапорщик?.. Как бишь его зовут?.. Такой милый, скромный... — Сицкой? — Да. — Вот здесь в кустах, лежит рядышком с своим братом. — Убит? Как жаль! — Ну, братец, как-то бог и остальных вынесет. Ведь как мы начнем ретироваться, так французы нам кланяться не станут; посмотри, какие будут проводы. — Не беспокойся! Зарецкой с своим эскадроном сделает диверсию и станет прикрывать ваше отступление... Вон видишь? Он заезжает во фланг французским стрелкам. — Вижу. А видишь ли ты — немного полевее?.. — Что это? Никак, неприятельская конница? — Да кажется, что так. Нет, братец! Зарецкому будет не до меня. Делать нечего, пришлось одному отгрызаться. Рассыпанные меж кустов и по полю стрелки стали сбираться вокруг барабанщика, и Зарядьев, несмотря на сильный неприятельский огонь, командуя как на ученье, свернул человек четыреста оставшихся солдат в небольшую колонну. — Смотрите, — сказал он, — слушать команду, равняться, идти в ногу, а пуще всего не прибавлять шагу. Тихим шагом — марш! Рославлев, который ехал в голове ретирующейся колонны, не спускал глаз с эскадрона Зарецкого. — Ну, Зарядьев! — сказал он, — помоги бог нашему приятелю! Смотри, смотри! Вон несутся на него французские латники. Боже мой! да их, кажется, эскадрона два или три! — Не бойся, братец! Бой будет равный. Видишь, один эскадрон принимает направо, прямехонько на нас. Милости просим, господа! мы вас попотчеваем! Смотри, ребята! без приказа не стрелять, задним шеренгам передавать передней заряженные ружья; не торопиться и слушать команды. Господа офицеры! прошу быть внимательными. По первому взводу строй каре! В одну минуту из небольшой густой колонны составилось порядочное каре, которое продолжало медленно подвигаться вперед. Меж тем неприятельская конница, как громовая туча, приближалась к отступающим. Не доехав шагов полутораста до каре, она остановилась, раздалась громкая команда французских офицеров, и весь эскадрон латников, подобно бурному потоку, ринулся на небольшую толпу бесстрашных русских воинов. — Погодите, голубчики! — сказал Зарядьев, — мы вас шарахнем! Каре, стой! Вполоборота налево... первый плутонг — клац-пли! Густое облако дыма скрыло на минуту неприятельскую кавалерию; но, по-видимому, этот первый залп не очень ее расстроил, и когда дым рассеялся, то французские латники были уже недалее пятидесяти шагов от каре. — Третий плутонг, — скомандовал Зарядьев, — клац-пли! Пятой плутонг — клац-пли! Я думаю, — продолжал он, — этого будет с них довольно. В самом деле, когда можно стало различать сквозь дым окружные предметы, Рославлев увидел, что неприятельской эскадрон, совершенно расстроенный, принял направо, оставив на одном месте более пятидeсяти убитыx лoшaдeй и coлдaт. — Ну, это дело кончено! — сказал Зарядьев. — Теперь вперед. Во фрунт — марш! — Ай да молодец! — вскричал Рославлев. — Славно отделался! — Отделался, да не совсем, — перервал капитан с приметным неудовольствием. — Посмотри-ка! кто это заезжает к нам в тыл? — Еще конница? — То-то и дело, что нет — провал бы ее взял, проклятую! Так и есть! конная артиллерия. Слушайте, ребята! если кто хоть на волос высунется вперед — боже сохрани! Тихим шагом!.. Господа офицеры! идти в ногу!.. Левой, правой!.. раз, два!.. Три ядра, одно за другим, прогудели над головами солдат; четвертое попало в самую средину каре. — Не прибавляй шагу! — закричал Зарядьев. — Примкни! Передний фас, равняйся!.. В ногу!.. Заболтали!.. Вот я вас... Стой! Каре остановилось; еще несколько ядер выхватило человек пять из заднего фрунта, который приметным образом начал колебаться. — Не шевелиться! — закричал громовым голосом Зарядьев, — а не то два часа продержу под ядрами. Унтер-офицеры, на линию! Вперед — равняйся! Стой!.. Тихим штагом — марш! — Послушай, Зарядьев! — сказал вполголоса Рославлев, — ты, конечно, хочешь показать свою неустрашимость: это хорошо; но заставлять идти в ногу, выравнивать фрунт, делать почти ученье под выстрелами неприятельской батареи!.. Я не назову это фанфаронством, потому что ты не фанфарон; но, воля твоя, это такой бесчеловечной педантизм... — Эх, братец! убирайся к черту с своими французскими словами! Я знаю, что делаю. То-то, любезный, ты еще молоденек! Когда солдат думает о том, чтоб идти в ногу да равняться, так не думает о неприятельских ядрах. — Положим, что так; но для чего вести их тихим шагом? — А ты бы, чай, повел скорым? Нет, душенька! от скорого шагу до беготни недалеко; а как побегут да нагрянет конница, так тогда уже поздно будет командовать. Однако ж взгляни-ка налево: кажется, наш приятель Зарецкой делает то же, что мы. В самом деле, Зарецкой, атакованный двумя эскадронами латников, после жаркой схватки скомандовал уже: «По три налево кругом — заезжай!» — как дивизион русских улан подоспел к нему на помощь. В несколько минут неприятельская кавалерия была опрокинута; но в то же самое время Рославлев увидел, что один русской офицер, убитый или раненый, упал с лошади. — Боже мой! — вскричал он, — это, кажется, Зарецкой? Так точно, это его серая лошадь!.. — И, братец! — перервал Зарядьев, — мало ли серых лошадей... Да постой, куда ты? Но Рославлев, не слушая его слов, приударил нагайкою свою лошадь и полетела ту сторону, где происходило кавалерийское дело. Когда Рославлев стал приближаться к нашей коннице, то неприятельская, подкрепленная свежими войсками, построилась снова в боевой порядок, и между обеих кавалерийских колонн начали разъезжать и показывать свое удальство фланкеры обеих сторон. Один французский конной егерь, сшибя с лошади сабельным ударом русского гусара, подскакал шагов на десять к Рославлеву и выстрелил по нем из пистолета. Сгоряча Рославлев едва почувствовал, что ему как будто бы обожгло левую руку; он подъехал к гусарам, и первый офицер, его встретивший, был Зарецкой. — Слава богу! — вскричал Рославлев, — ты жив! А мне показалось издали... — Да, Владимир! я жив и даже не ранен; но поручика моего французы отправили на тот свет. Жаль! славный был малой. Да постой-ка: что у тебя рука? Ты ранен. — Ранен? неужели? — Да, и, кажется, не на шутку; надобно скорей перевязать твою руку. — Сейчас прискакал с приказом адъютант, — -сказал уланской ротмистр, подъехав к гусарам. — Haм велено отретироваться за передовую нашу линию. — Эй, Трощенко! — закричал Зарецкой, — труби аппель! (сбор! (от фр. appel.)) Да, кажется, и французы устали уж драться, — продолжал он, посматривая вперед, — их цепь начинает очень редеть, и канонада почти совсем утихла. — На нашем фланге утихла, — прибавил улан, — а слышите ли, на левом какая еще идет жарня? Гусарской эскадрон примкнул к уланам, переправился, не будучи преследуем неприятелем, через речку в то самое время, как Зарядьев, потеряв еще несколько солдат, присоединился благополучно к своей колонне. Зарецкой, сдав на несколько времени команду старшему по себе, проводил Рославлева до обоза, расположенного в полуверсте от наших резервов. На каждом шагу встречались им раненые; все лекаря были заняты. Прождав около четверти часа подле огонька, разложенного между фур, Зарецкой вскричал наконец с нетерпением: — Да что ж это до сих пор не отыщут нашего полкового лекаря? Я боюсь, не раздроблена ли у тебя кость! — А вот увидим-с, — сказал, подходя к ним, человек небольшого роста, с широким красным лицом и прищуренными глазами. — Позвольте-c! — Насилу пришел! — сказал Зарецкой. — Мы с полчаса тебя дожидаемся. — Сейчас, сударь, сейчас! Что, батюшка, Владимир Сергеевич, и вас зацепило? Эге-ге!.. подле самого локтя!.. Постойте-ка... Ого-го!.. Навылет! Ну, изрядно-с! Да не извольте скидать сюртука; мы лучше распорем рукав. Эй, Швалев! — продолжал он, обращаясь к полковому фельдшеру, который стоял позади его с перевязками, — разрежь рукав, а я меж тем приготовлю инструменты. — А что? — спросил Зарецкой, — разве ты думаешь, что надобно будет?.. — Не могу доложить-с, — отвечал лекарь, перебирая свой хирургический портфель, — а вряд ли дело обойдется без ампутации! Да не беспокойтесь, я взял новые инструменты: это минутное дело. — Помилуй, братец! — вскричал Зарецкой, — что у тебя за страсть резать руки? Будет в тебя: я думаю, сегодня ты их с полдюжины отрезал. — С полдюжины?.. Нет, сударь! прошу не прогневатьcя, — возразил с гордостию обиженный хирург, — поболее будет полдюжины! Швалев! сколько мы сегодня отпилили рук? — Одиннадцать, ваше благородие! — Врешь, дурак! Двенадцать рук и три ноги; всего пятнадцать операций в один день. Нечего сказать, славная практика-с! Ну, Владимир Сергеевич, позвольте теперь. Да не бойтесь, я хочу только зондировать вашу рану. После минутного молчания, в продолжение которого Зарецкой не спускал глаз с своего друга, лекарь объявил, что, по-видимому, пуля не сделала никакого важного повреждения. — Ну, Владимир Сергеевич, — прибавил он, — поздравляю вас! Кажется, вы останетесь с рукою, а если б на волосок пониже, то пришлось бы пилить... Впрочем, это было бы короче — минутное дело; да оно же и вернее. — Спасибо, Иван Иванович! — сказал, улыбаясь, Рославлев. — Так и быть, я уж рискну остаться с рукою. — Как угодно-с. Только я советую вам отсюда уехать. Во всяком случае, рана ваша требует частой перевязки, а мы двух дней не постоим на одном месте, так трудненько будет-с наблюсти аккуратность. — В самом деле, — сказал Зарецкой, — ступай лечиться к своей невесте. Видишь ли, мое предсказание сбылось: ты явишься к ней с Георгиевским крестом и с подвязанной рукою. Куда ты счастлив, разбойник! Ну, что за прибыль, если меня ранят? К кому явлюсь с распоранным рукавом? Перед кем стану интересничать? Перед кузинами и почтенной моей тетушкой? Большая радость!.. Но вот, кажется, и на левом фланге угомонились. Пора: через полчаса в пяти шагах ничего не будет видно. Сраженье прекратилось, и наш арьергард, отступя версты две, расположился на биваках. На другой день Рославлев получил увольнение от своего генерал и, найдя почтовых лошадей в Вязьме, доехал благополучно до Серпухова. Но тут он должен был поневоле остановиться: рука его так разболелась, что он не прежде двух недель мог отправиться далее, и наконец 26 августа, в день знаменитого Бородинского сражения, Рославлев переменил в последний раз лошадей, не доезжая тридцати верст от села Утешина. ГЛАВА V Размытая проливными дождями проселочная дорога, по которой ехал Рославлев вместе со своим слугою, становилась час от часу тяжелее, и, несмотря на то, что они ехали в легкой почтовой тележке, усталые лошади с трудом тащились шагом. Солнце уже садилось, последние лучи его, догорая на ясных небесах, золотили верхи холмов, покрытых желтой нивою. Позади наших путешественников и над их головами не было заметно ни одного облачка; но душный воздух, стеснял дыхание, и впереди, из-за густого леса, подымались черные тучи. — Ну, сударь, будет гроза! — сказал Егор, поглядывая робко вперед. — Посмотрите, какие оттуда лезут тучи... Ух, батюшки!.. одна другой страшнее! — Недаром сегодня так парило, — примолвил извозчик. — Вон и ласточки низко летают — быть грозе! — А далеко ли еще до Утешина? — спросил Рославлев. — Верст пятнадцать — поболе будет. — Только-то? — сказал Егор. — Так ступай скорее: долго ли пропахнуть пятнадцать верст. — И рад бы ехать, да вишь дорога-то какая. Чему и быть: уж с неделю места, дождик так ливмя и льет. — Может быть, впереди дорога лучше. — Куда лучше! Версты за три до села, слышь ты, так благо, что вовсе проезда нет. — Да нет ли другой дороги? — спросил Рославлев. — Бают, что лесом есть объезд. Кабы было у кого поспрошать, так можно бы; а то дело к ночи: запропастишься так, что животу не рад будешь. — Постой! — вскричал Егор. — Вон там, подле леса, едет кто-то верхом. Догоняй-ка его: может статься, он здешний. Ямщик приударил лошадей, и через несколько минут, подъехал к частому сосновому бору, они догнали верхового, который, в провожании двух борзых собак, ехал потихоньку опушкой леса. — Владимир Сергеич! — сказал Егор, — да это никак, ловчий Николая Степановича Ижорского? Ну, так и есть, он! Эй, Шурлов! здравствуй, любезный! Охотник оглянулся, повернул свою лошадь и подъехав к телеге, вскрикнул: — Что это? Ах, батюшка, Владимир Сергеич это вы? — Как ты сюда заехал, Архипыч? Зачем? — спросил Егор. — А вот видишь, зачем, — отвечал Шурлов показывая на двух зайцев, которые висели у него в тороках. — Ну что, братец, все ли у вас благополучно? — спросил с приметной робостию Рославлев. — Все ли здоровы?.. — Все, слава богу, батюшка, то есть Прасковья Степановна и обе барышни; а об нашем барине мы ничего не знаем. Он изволил пойти в ополчение да и все наши соседи — кто уехал в дальние деревни кто также пошел в ополчение. Ну, поверите ль, Владимир Сергеич, весь уезд так опустел, что хоть шаром покати. А осень-та, кажется, будет знатная! да так-ни за копейку пропадет: и поохотиться некому. — Послушай, брат, — перервал Егор. — где у вас объезд лесом? А то, говорят, дорога-то к селу больно плоха. — Да так-то плоха, что и сказать нельзя. Объездим лучше; а все, как станете подъезжать к селу так — не роди мать на свете!.. грязь по ступицу. Вот я поеду подле вас да укажу, где надо своротить с дороги. Ямщик тронул лошадей, и наши путешественники дотащились шагом вперед. — Ну, сударь, — продолжал Шурлов — не чаяли мы так скоро вас видеть. Да что это? никак, у вас рука подвязана? — Да: я ранен. — Слава богу, что еще в руку, батюшка. А, чай сколько голов легло под одним Смоленском? Ну, сударь, прогневался на нас господь! Тяжкие времена! Вот хоть через наш уезд, уж ехало, ехало смоленских обывателей. Сердечные! в разор разорены! Поглядишь на иного помещика: едет, родимый, с женой да с детьми, а куда? и сам не знает. Верите ль богу, сердце изныло, глядя на их слезы; и как гоняют мимо нас этих пленных французов, то вот так бы их, разбойников, и съел! Эх, сударь!.. А Прасковья-то Степановна... бог ей судья! — Что такое?.. — Не вам бы слушать, и не мне бы говорить! Ведь она родная сестрица нашего барина, а посмотрите-ка, что толкуют о ней в народе — уши вянут!.. Экой срам, подумаешь! — Ты пугаешь меня!.. Да что такое? — Помните ли, сударь, месяца два назад, как я вывихнул ногу — вот, как по милости вашей прометались все. собаки и русак ушел? Ах, батюшка, Владимир Сергеич, какое зло тогда меня взяло!.. Поставил родного в чистое поле, а вы... Ну, уж честил же я вас — не погневайтесь!.. — Хорошо, братец, хорошо; но дело не о том... — Ну, вот, сударь! Я провалялся без ноги близко месяца; вы изволили уехать; заговорили о французах, о войне; вдруг слышу, что какого-то заполоненного француза привезли в деревню к Прасковье Степановне. Болен, дискать, нельзя гнать с другими пленными! Как будто бы у нас в городе и острога нет... — А, это тот раненый полковник... — А черт его знает — полковник ли он или нет! Они все меж собой запанибрата; платьем пообносились, так не узнаешь, кто капрал, кто генерал. Да это бы еще ничего; отвели б ему фатеру где-нибудь на селе — в людской или в передбаннике, а то — помилуйте!.. забрался в барские хоромы да захватил под себя всю половину покойного мужа Прасковьи Степановны. Ну, пусть он полковник, сударь; а все-таки француз, все пил кровь нашу; так какой, склад русской барыне водить с ним компанию? — Послушай, Шурлов: и бог велит безоружного врага миловать, а особливо когда он болен. — Да уж он, сударь, давным-давно выздоровел. И посмотрите, как отъелся; какой стал гладкой — пострел бы его взял! Бык быком! И это бы не беда: пусть бы он себе трескал, проклятый, да жирел вволю — черт с ним! Да знай сверчок свой шесток; а то срамота-то какая!.. Ведь он ни дать ни взять стал нашим помещиком. — Как помещиком? — Да так же! Расхаживает себе по хоромам из комнаты в комнату, курит из господской пенковой трубки, которую покойник берег пуще своего глаза. Подавай ему того, другого; да как покрикивает на людей — словно барин какой. А как пойдет гулять по саду с барыней, так — господи боже мой! подбоченится, закинет голову... Ну черт ему не брат! Я старик, а и во мне кровь закипит всякой раз, как с ним повстречаюсь — так руки и зудят! Ух, батюшки!.. Кабы воля да воля, хватил бы его рожном по боку, так перестал бы кочевряжиться! подумаешь, сколько, чай, сгубил он православных, а русская барыня на руках его носит! — Полно, Шурлов, не сердись. Если он выздоровел, то, конечно, должно его отправить в город; я по-говорю об этом. — Поговорите, батюшка, а то, знаете ли? не ладно, видит бог, не ладно! На селе все мужички стали меж собой калякать: «Что, дискать, это? Уж барыня-то наша не изменница ли какая? Поит и кормит злодеев наших». И анагдась так было расшумаркались, что и приказчик места не нашел. «Что, дискать, этому нехристю смотреть в зубы? в колья его, ребята!» Уж кое-как уговорил их батька Василий. Правда, с тех пор француз и носу не смеет на улицу показывать; а барыня стала такая ласковая с отцом Васильем: в неделю-то раз пять он обедает на господском дворе. Ох, батюшка! недаром это! Знаете ли, какой слух недавно прошел в народе?.. Страшно вымолвить! — А что такое? — Говорят... не дай господи согрешить напрасно! — продолжал Шурлов, понизив голос. — Говорят, будто бы старая-то барыня хочет выйти замуж за этого француза. — Какой вздор! — Может статься, и вздор, батюшка; да ведь глотки никому не заткнешь; и власть ваша, а дело на то походит. Палагея Николавна — невеста ваша, да она недавно куда ж больна была, сердечная! — Что ты говоришь? — Да, сударь, захворала было не на шутку; но теперь, говорят, слава богу, оправилась и стала повеселей. Ольга Николавна, как слышно, не очень изволит жаловать этого француза; так на кого и подумать, как не на старую барыню. А она же, как говорят, ни пяди от него не отстает и по-французскому вот так и сыпет; день-деньской только и слышут люди: мусьё да мусьё, мадам да мадам, шушуканье да шепотня с утра до вечера. Ну, воля ваша, а это все не к добру! Ведь бес-то силен, батюшка! долго ль до греха! Да и проклятый француз... такая диковинка!.. Видали мы всяких мусьёв и учителей: всё народ плюгавый, гроша не стоит; а этот пострел, кажется, француз, а какой бравый детина!.. что грех таить, батюшка, стоит русского молодца. Вот вы смеетесь, Владимир Сергеич? А смотрите, чтоб не пришлось нам всем плакать. — Не бойся, Шурлов: ты не знаешь, почему Прасковья Степановна так ласкова с этим французом: ведь они давно уже знакомы. — Вот что?.. Ну это как будто бы полегче; а все лучше, если бы его отправили к команде. Не то время, Владимир Сергеич! Чай, слыхали пословицу: «Дружба дружбой, а служба службой»! А ведь чем же нам и послужить теперь государю, как не тем, чтоб бить наповал эту саранчу заморскую. Был, батюшка, и на их улице праздник: поили их, кормили, приголубливали, а теперь пора и в дубьё принять. Ну вот, Владимир Сергеич, и поворот, — продолжал старый ловчий, остановив свою лошадь. — Извольте ехать прямо по этой просеке до песочного врага; держитесь все правой руки, а там пойдет дорога налево; как поравняетесь с деревянным крестом — изволите знать, что в сосновой роще? — Как незнать? — подхватил Егор. — Ведь ты говоришь про тот крест, что поставлен над могилою приказчика Терентьича, которого еще в пугачевщину на этом самом месте извели казаки? — Ну да. — Эх, брат! место-то неловкое. Говорят, будто бы по ночам видали, что перед крестом теплится: свечка и сидит сам покойник. — Слыхать-то об этом и я слыхал, а сам не видывал. От креста вы проедете еще версты полторы, а там выедете на кладбище; вот тут пойдет опять плохая дорога, а против самой кладбищенской церкви — такая трясина, что и боже упаси! Забирайте уж лучше правее; по пашне хоть и бойко, да зато не увязнете. Ну, прощайте, батюшка, Владимир Сергеич! — А ты куда, Шурлов? — Я неподалеку отсюда переночую у приятеля на пчельнике. Хочется завтра пообшарить всю эту сторону; говорят, будто бы здесь третьего дня волка видели. Прощайте, батюшка! с богом! Да поторапливайтесь, а не то гроза вас застигнет. Посмотрите-ка, сударь, с полуден какие тучи напирают! В самом деле, впереди все небо подернулось черными тучами, изредка сверкала молния, и хотя отдаленный гром едва был слышен, но листья шевелились на деревьях и воздух становился час от часу душнее. Шурлов повернул свою лошадь, подкликал собак и пустился рысью назад по дороге; а наши путешественники въехали в узкую просеку, которая шла в самую средину леса. Казалось, с каждым шагом вперед лес становился все темнее; кругом царствовала мертвая тишина. Несколько минут ничто не нарушало торжественного безмолвия ночи; путешественники молчали, колеса катились без шума по мягкой дороге, и только от времени до времени сухой валежник хрустел под ногами лошадей и раздавался легкой шорох от перебегающего через дорогу зайца. — Эка ночка! — сказал наконец Егор. — Ну, сударь, дай бог нам доехать благополучно. Не знаю, как вы, а я начинаю побаиваться. Ну, если мы заплутаемся? Рославлев не отвечал ни слова. — Ох, эти объезды! — продолжал вполголоса Егор, посматривая робко во все стороны, — терпеть их не могу: того и гляди, заедешь туда, куда ворон и костей не заносил. Здесь, чай, и днем-то всегда сумерки, а теперь... — он поднял глаза кверху, — ни одной звездочки на небе, поглядел кругом — все темно: направо и налево сплошная стена из черных сосен, и кой-где высокие березы, которые, несмотря на темноту, белелись, как мертвецы в саванах. Прошло еще несколько минут, последний свет от потухающей зари исчез на мрачных небесах, покрытых густыми облаками, и наступила совершенная темнота. Ямщик слез с телеги и пошел пешком подле лошадей, которые, робко передвигая ноги, едва подавались вперед. С лишком час наши путешественники тащились шагом. Рославлев молчал, а Егор, чтоб ободрять себя, посвистывал и понукал лошадей. — Ну, что ж ты заснул, братец! — сказал он наконец ямщику. — Садись да погоняй лошадей-та! — Да, погоняй!.. А как наедешь на колоду. Вишь темнять какая! — Так затяни песенку: все-таки будет повеселее. — Коль ты охоч до песен, так пой сам. — А ты что? — Да!.. слышь ты, парень, до песен теперь! Только вынеси господь!.. Туда ли еще едем. — Что ж ты за ямщик, коли не знаешь, куда едешь? Смотри, брат! Если ты завезешь нас в какую-нибудь трущобу, так добром со мной не разделаешься. — Ой ли? Грози, брат, богатому — денежку даст, а с меня взятки-та гладки. Ведь я вам баил, что обьезда не знаю. — В самом деле, не заплутались ли мы? — спросил Рославлев. — Небось, барин! Бог милостив; авось как-нибудь выберемся из леса. Только гроза-та нас застигнет; вон и дождик стал накрапывать. Крупные дождевые капли зашумели меж листьев; заколебались вершины деревьев; ветер завыл, и вдруг все небо осветилось... — Господи помилуй! — сказал, перекрестясь, Егор. — Экая молния, так и палит! Сильный удар грома потряс все окрестности, и проливной дождь, вместе с вихрем, заревел по лесу. Высокие сосны гнулись, как тростник, с треском ломались сучья; глухой гул от падающего рекой дождя, пронзительный свист и вой ветра сливались с беспрерывными ударами грома. Наши путешественники при блеске ежеминутной молнии, которая освещала им дорогу, продолжали медленно подвигаться вперед. — Постой-ка, — сказал ямщик Егору, — уж не овраг ли это? Придержи-ка, брат, лошадей, а я пойду посмотрю. Он сделал несколько шагов вперед меж частого кустарника и закричал: — Ну так и есть — овраг! — Посмотри, Егор! — сказал Рославлев, — мне показалось, что молния осветила вон там в стороне деревянный крест. Это должна быть могила Терентьича — видишь? прямо за этой сосной? — Вижу, сударь, вижу!.. — отвечал Егор прерывающимся от страха голосом. — А видите ли вы?.. — Что такое?.. — Посмотрите, посмотрите!.. вон опять!.. Господи, помилуй нас грешных!.. Молния снова осветила крест, и Рославлеву показалось, что кто-то в белом сидит на могиле и покачивается из стороны в сторону. — Что б это значило? — спросил он, слезая с телеги. — Надобно подойти поближе. — Что вы? Христос с вами! — вскричал Егор, схватив за руку своего господина. — Разве не видите, что это сам покойник в саване. В продолжение этого короткого разговора все утихло: дождь перестал идти, и ветер замолк. С полминуты продолжалась эта грозная тишина, и вдруг ослепительная молния, прорезав черные тучи, рассыпалась почти над головами наших путешественников. Рославлев и Егор, оглушенные ужасным треском, едва устояли на ногах, а лошади упали на колени. В двадцати шагах от них, против самого креста, задымилась сосна; тысячи огненных змеек пробежали по ее сучьям; она вспыхнула, и яркое пламя осветило всю окружность. Дождь снова полился, и ветер забушевал между деревьями. Несмотря на просьбы своего слуги, Рославлев подошел к могиле; ни на ней, ни подле нее никого не было; но что-то похожее на человеческой хохот сливалось вдали с воем ветра. Когда он возвратился к телеге, ямщик стоял возле лошадей, которые дрожали, форкали и жались одна к другой. — Что делать, батюшка? — сказал ямщик, — лошадки-то больно напугались. Смотри-ка, сердечные, так дрожкой и дрожат. Уж не переждать ли нам здесь? А то, сохрани господи, шарахнутся да понесут по лесу, так косточек не сберешь. — Пожалуй, переждем, — сказал Рославлев. — Кажется гроза начинает утихать. — Ну что, сударь? — спросил Егор, — вы подходили к могиле? — Там никого нет. — Помилуйте! Да разве мы не видали? — Нам это показалось или, может быть... но в такую грозу... среди леса... Нет, мы, верно, приняли какой-нибудь березовый пенек за человека. Егор покачал головою и не отвечал ничего. Более получаса продолжалась гроза; наконец все стало утихать; но впереди сверкала молния и сбирались новые тучи. Путешественники двинулись вперед. Узкая, извилистая дорога, по которой и днем не без труда можно было ехать, заставляла их почти на каждом шаге останавливаться; колеса поминутно цеплялись за деревья, упряжь рвалась, и ямщик стал уже громко поговаривать, что в село Утешино нет почтовой дороги, что в другой раз он не повезет никого за казенные прогоны, и даже обещанный рубль на водку утешил его не прежде, как они выехали совсем из леса. — Вот, кажется, кладбищная церковь? — сказал Рославлев, указывая на белое здание, которое при свите блеснувшей молнии отделилось от группы деревьев, его окружающих. — А за ним полевее, — перервал Егор, — должно быть село. Верно, все спят! Ни одного огонька не видно. Я думаю, уж поздно, сударь? Рославлев вынул часы, подавил репетицию; она пробила одиннадцать часов и три четверти. — Скоро полночь. — Так, верно, теперь и на барском дворе почивают. Не проехать ли нам, сударь, в дом к Николаю Степановичу?! — Нет: может быть, они еще не ложились. Эй! ямщик! ступай скорей! Я дам еще рубль на водку. Ямщик погнал лошадей; но они едва могли бежать рысью по грязной дороге, которая с каждым шагом становилась хуже. Вот наконец путешественники доехали до кладбища. Поравнявшись с группою деревьев, которая стрех сторон закрывала церковь, извозчик позабыл о том, что советовал им старый ловчий, — не свернул с дороги: колеса телеги увязли по самую ступицу в грязь, и, несмотря на его крики и удары, лошади стали. Пробившись с четверть часа на одном месте, он объявил решительно, что без посторонний помощи они никак не выдерутся из грязи. — Делать нечего, сударь! — сказал Егор, — оставайтесь здесь, а я сбегаю за народом. — Ступай на мельницу: она в двух шагах отсюда. — В самом деле! Ведь на ней живет вся семья Архипа-мельника. Подождите, сударь, мигом слетаю. У нас в России почти каждая деревня имеет свои изустные предания о колдунах, мертвецах и привидениях, и тот, кто, будучи еще ребенком, живал в деревне, верно, слыхал от своей кормилицы, мамушки или старого дядьки, как страшно проходить ночью мимо кладбища, а особливо когда при нем есть церковь. русской крестьянин, надев солдатскую суму, встречает беззаботно смерть на неприятельской батарее или, не будучи солдатом, из одного удальства пробежит но льду, который гнется под его ногами; но добровольно никак не решится пройти ночью мимо кладбищной церкви; а почему весьма натурально, что ямщик, оставшись один подле молчаливого барина, с приметным беспокойством посматривал на кладбище, которое расположено было шагах в пятидесяти от большой дороги. Рославлев не понимал сам, что происходило в душе его; он не мог думать без восторга о своем счастии, и в то же время какая-то непонятная тоска сжимала его сердце; горел нетерпением прижать к груди своей Полину и почти радовался беспрестанным остановкам, отдалявшим минуту блаженства, о которой недели две тому назад он едва смел мечтать, сидя перед огнем своего бивака. Мы все любим предаваться надежде, верим слепо ее обещаниям, и почти всегда в ту самую минуту, когда она готова превратиться в существенность, боязнь и сомнение отравляют нашу радость. Не эту ли самую недоверчивость души к земному нашему счастию мы называем предчувствием, разумеется, если последствия его оправдают? В противном случае мы тотчас забываем, что сердце предсказывало нам горе и что это предвещание не сбылось. Погруженный в глубокую задумчивость, Рославлев не замечал, что несколько уже минут ямщик стоял неподвижно на одном месте и, дрожа всем телом, смотрел на кладбищную церковь. — Барин! а барин!.. — прошептал он наконец трепещущим голосом, — что это такое?.. — Что ты, братец? — спросил Рославлев. — Да неужели, батюшка, не слышите? Чу!.. Наше место свято!.. — Постой!.. в самом деле... церковное пение... Где ж это поют?.. — Как где? На кладбище. Вон опять!.. С нами крестная сила!.. Ох, неловко, кормилец!.. — Может быть, похороны?.. — Да разве, батюшка, по ночам кого отпевают? — Это в самом деле странно!.. Побудь у лошадей! — сказал Рославлев, слезая с телеги и взяв под плечо свою саблю. — Ах, батюшка барин!.. да как же я останусь-то один? — Небось, братец: мертвецы через дорогу не перебегают, — сказал с улыбкою Рославлев. — Глядь-ка, барин!.. — закричал ямщик, — глядь! вон и огонек в окне показался — свят, свят!.. Ух, батюшки!.. Ажно мороз по коже подирает!.. Куда это нелегкая его понесла? — продолжал он, глядя вслед за уходящим Рославлевым. — Ну, несдобровать ему!.. Экой угар, подумаешь!.. И молитвы не творит!.. Рославлев перелез через плетень, которым обнесено было кладбище. С трудом пробираясь между могил, он не слышал уже пения, но видел ясно, что внутренность церкви освещена; ему показалось даже, что в одном углу церковного погоста что-то чернелось и раздавался шорох, похожий на топот лошадей, которые не стоят смирно на одном месте. Чтоб заглянуть во внутренность церкви, надобно было непременно взойти на высокую паперть по крутой и узкой лестнице. Едва он успел шатнуть на первую ступеньку, как вдруг у самых ног его кто-то прохрипел диким голосом: «Тише ты! Не дави живых людей; я еще не умерла». Рославлев невольно отскочил назад и схватился за рукоятку своей сабли; но в ту же самую минуту блеснула молния и осветила сидящую на лестнице женщину в белом сарафане, с распущенными по плечам волосами. Она щелкала зубами, и глаза ее сверкали ужасным образом. — Это ты, Федора? — сказал Рославлев, узнав сумасшедшую. — Что ты здесь делаешь? — Вестимо что: пришла на похороны. — Какие похороны?.. — Погляди в окно, так сам увидишь. Чу!.. слышишь? Поют со святыми упокой. — Да, точно поют! Но это совсем не похоронный напев... напротив... мне кажется... — Рославлев не мог кончить: невольный трепет пробежал по всем его членам. Так он не ошибается... до его слуха долетели звуки и слова, не оставляющие никакого сомнения... — Боже мой! — вскричал он, — это венчальный обряд... на кладбище... в полночь!.. Итак, Шурлов говорил правду... Несчастная! что она делает!.. — Те!.. тише!.. — перервала безумная. — Не кричи! помешаешь отпевать!.. Чу! слышишь, затянули вечную память!.. Да постой! куда ты? — продолжала она, схватив за руку Рославлева. — Подождем здесь; как вынесут, так мы проводим ее до могилы.  Рославлев, от которого сумасшедшая не отставала, вбежал на паперть и остановился у первого окна. Внутренность церкви была слабо освещена несколькими свечами, поставленными в паникадила; впереди амвона, перед налоем, стоял священник в полном облачении; против него жених и невеста, оба в венцах; а позади, подле самого окна, две женщины, закутанные в салопы. Казалось, одна из них горько плакала. Рославлев, к которому они так же, как невеста и жених, стояли спиною, не мог этого видеть, но слышал ее рыдания. Эти две женщины, без сомнения, Полина и Оленька. В женихе нетрудно было узнать по иностранному мундиру пленного французского полковника; но его невеста?.. Она не походит на Лидину... нет!.. эта тонкая талия, эти распущенные по плечам локоны! Боже мой!.. неужели Оленька?.. Вот священник берет жениха и невесту за руки, чтоб обвести вокруг налоя... они идут... поравнялись с царскими вратами... остановились... вот начинают доканчивать круг... свет от лампады, висящей перед Спасителем, падает прямо на лицо невесты... «Милосердый боже!.. Полина!!!» В эту самую минуту яркая молния осветила небеса, ужасный удар грома потряс всю церковь; но Рославлев не видел и не слышал ничего; сердце его окаменело, дыханье прервалось... вдруг вся кровь закипела в его жилах; как исступленный, он бросился к церковным дверям: они заперты. В совершенном неистовстве, скрежеща зубами, он ухватился за железную скобу; но от сильного напряжения перевязки лопнули на руке его, кровь хлынула ручьем из раны, и он лишился всех чувств.
Рославлев, от которого сумасшедшая не отставала, вбежал на паперть и остановился у первого окна. Внутренность церкви была слабо освещена несколькими свечами, поставленными в паникадила; впереди амвона, перед налоем, стоял священник в полном облачении; против него жених и невеста, оба в венцах; а позади, подле самого окна, две женщины, закутанные в салопы. Казалось, одна из них горько плакала. Рославлев, к которому они так же, как невеста и жених, стояли спиною, не мог этого видеть, но слышал ее рыдания. Эти две женщины, без сомнения, Полина и Оленька. В женихе нетрудно было узнать по иностранному мундиру пленного французского полковника; но его невеста?.. Она не походит на Лидину... нет!.. эта тонкая талия, эти распущенные по плечам локоны! Боже мой!.. неужели Оленька?.. Вот священник берет жениха и невесту за руки, чтоб обвести вокруг налоя... они идут... поравнялись с царскими вратами... остановились... вот начинают доканчивать круг... свет от лампады, висящей перед Спасителем, падает прямо на лицо невесты... «Милосердый боже!.. Полина!!!» В эту самую минуту яркая молния осветила небеса, ужасный удар грома потряс всю церковь; но Рославлев не видел и не слышал ничего; сердце его окаменело, дыханье прервалось... вдруг вся кровь закипела в его жилах; как исступленный, он бросился к церковным дверям: они заперты. В совершенном неистовстве, скрежеща зубами, он ухватился за железную скобу; но от сильного напряжения перевязки лопнули на руке его, кровь хлынула ручьем из раны, и он лишился всех чувств.Обряд венчанья кончился; церковные двери отворялись. Впереди молодых шел священник в провожании дьячка, который нес фонарь; он поднял уже ногу, чтоб переступить через порог, и вдруг с громким восклицанием отскочил назад: у самых церковных дверей лежал человек, облитый кровью; в головах у него сидела сумасшедшая Федора. — Господи помилуй! Что это такое? — сказал священник. — Эй, Филипп! посвети!.. Боже мой! — продолжал он, — русский офицер! — И весь пол в крови! — воскликнула Полина. — Так что ж? — сказала Федора, устремив сверкающий взор на Полину. — Небось, ступай смелее! Чего тебе жалеть: ведь это русская кровь! Дьячок нагнулся и осветил фонарем бледное лицо Рославлева. — Праведный боже!.. Рославлев!.. — вскричала Оленька. — Рославлев! — повторила ужасным голосом Полина. — Он жив еще?.. — Нет, умер! — перервала безумная. — Милости просим на похороны. — И ее дикой хохот заглушил отчаянный вопль Полины. ГЛАВА VI Часу в шестом утра, в просторной и светлой комнате, у самого изголовья постели, накоторой лежал не пришедший еще в чувство Рославлев сидела молодая девушка; глубокая, неизъяснимая горесть изображалась на бледном лице ее. Подле нее стоял знакомый уже нам домашний лекарь Ижорского; он держал больного за руку и смотрел с большим вниманием на безжизненное лицо его. У дверей комнаты стоял Егор и поглядывал с беспокойным и вопрошающим видом на лекаря. — Слава богу! — сказал сей последний, — пульс начинает биться сильнее; вот и краска в лице показалась; через несколько минут он должен очнуться. — Но как вы думаете, — спросила робким голосом молодая девушка, — этот обморок не будет ли иметь опасных последствий? — Теперь ничего нельзя сказать, Ольга Николаевна! Если причиною обморока была только одна потеря крови, то несколько дней покоя... но вот, кажется, он приходит в себя... — Я не могу долее здесь оставаться, — сказала Оленька, вставая, — но ради бога! если он будет чувствовать себя дурно, пришлите мне сказать... Несчастный!.. — Она закрыла руками лицо свое и вышла поспешно из комнаты. — Побудь с своим барином, — сказал Егору лекарь, уходя вслед за Оленькой, — а я сбегаю в аптеку и приготовлю лекарство, которое подкрепит его силы. Рославлев открыл глаза, привстал и с удивлением посмотрел вокруг себя. — Что это?.. — спросил он тихим голосам. — Где я? — В доме у Николая Степановича, сударь! — отвечал Егор, подойдя к постели. — У какого Николая Степановича?.. — Ижорского, сударь! — Ижорского?.. — повторял Рославлев. — Ах да, знаю!.. Ижорского!.. Но зачем мы здесь?.. когда приехали?.. Я ничего не помню... Постой!.. Мне кажется, вчера я заснул в телеге!.. Да! точно так!.. гроза... кладбище... сумасшедшая Федора... Боже мой!.. свадьба! Ах, Егор! какой я видел страшный сон! Егор поглядел с сожалением на своего господина и, покачав печально головою, сказал: — Что об этом говорить, сударь! успокойтесь! Вы не очень здоровы. — Кто? я? Да! я чувствую какую-то слабость... Но я не могу понять, для чего мы здесь, а не там?.. Постой! мне помнится, что лошади стали... ты пошел за людьми... да, да! я не во сне это видел, — и вдруг мы очутились здесь. Да что ж ты молчишь? — То-то, сударь! вы изволите смеяться над нашим братом: и дурачье-то мы, и всякому вздору верим; а кабы вы сами не ходили вчерась на кладбище... — Как! — вскричал Рославлев, — так я был на кладбище?.. Я видел это не во сне?.. Ну что же? говори, говори!.. — продолжал он, вскочив с постели; бледные щеки его вспыхнули, глаза сверкали; казалось, все силы его возвратились. — Успокойтесь, сударь! — сказал Егор. — Присядьте! я все вам расскажу. — Все? — Да, сударь, все, что знаю. Вчера ночью, против самой кладбищной церкви, наши лошади стали, а телега так завязла в грязи, что и колес было не видно. Я пошел на мельницу за народом, а вы остались на. дороге одни с ямщиком. — Да, точно так. Говори, говори!.. — Я пришел на мельницу; уж стучал, стучал, насилу достучался; видно, Архип хватил за ужином через край бражки. Я сбирался уж выбить окно... глядь! слава богу, проснулись. Пока я им толковал, в чем дело, пока вздули огонь и Архип с своими ребятами одевался, прошло этак с полчаса времени; Архип засветил фонарь, и мы вчетвером отправились на дорогу. Приходим — телега стоит на прежнем месте, а ни вас, ни ямщика нет. Что за причина такая?.. Мы принялись кричать: смотрим, лезет кто-то из-за куста... ямщик! лица нет на парне, дрожкой дрожит. «Что ты, братец? — спросил я, — где барин?» Вот он собрался с духом и стал нам рассказывать; да видно, со страстей язык-то у него отнялся: уж он мямлил, мямлил, насилу поняли, что в кладбищной церкви мертвецы пели всенощную, что вы пошли их слушать, что вдруг у самой церкви и закричали и захохотали; потом что-то зашумело, покатилось, раздался свист, гам и конской топот; что один мертвец, весь в белом, перелез через плетень, затянул во все горло: со святыми упокой — и побежал прямо к телеге; что он, видя беду неминучую, кинулся за куст, упал ничком наземь и вплоть до нашего прихода творил молитву. Ну, сударь, грех таить, от этих слов у всех нас волосы стали дыбом. Что делать? Идти искать вас на кладбище?.. Вчетвером я и самого черта не испугаюсь; да Архип-то стал переминаться ребята его также сробели: нейдут, да и только! Вот я подумал, перекрестился и только что хотел пуститься один на волю божью, как вдруг слышим — кто-то скачет к нам по дороге. Подскакал — гляжу: Иван Петров, слуга Прасковьи Степановны. Он сказал нам, что вы здесь, что вас нашли у кладбищной церкви, что вы лежите без памяти; а как нашли? кто нашел? толку не мог добиться. Вот, сударь, все, что я знаю. В продолжение сего разговора Рославлев несколько раз менялся в лице. — Итак... — сказал он. — Итак... нет сомненья... все то, что я видел... — А что вы видели, сударь? — спросил с любопытством Егор. — Я видел мою невесту... — Вашу невесту? В кладбищной церкви! в полночь? Христос с вами, сударь! Что вы? Вам померещилось! — В венце перед налоем... — Господи помилуй!.. Да это демонское наваждение... — Ах, Егор! если б в самом деле какой-нибудь злой дух... — А что ж вы думаете? Ведь сатана хитер, сударь, хоть кого из ума выведет. Ну, помилуйте, как могли вы видеть Палагею Николаевну на кладбище, когда она нездорова и лежит в постеле? — Что ты говоришь?.. Почему ты знаешь? — Сию минуту сестрица ее изволила говорить с лекарем. — Оленька здесь? Где ж она? — Уехала домой. Она всю ночь сидела подле вашей кровати; а уж как плакала! Господи боже мой!.. откуда слезы брались! Она изволила оставить вам письмо. — Письмо? Подай, подай!.. Егор взял со стола запечатанное письмо и подал его своему господину. — От Полины!.. — вскричал Рославлев. Он, сорвав печать, развернул дрожащей рукою письмо. Холодный пот покрыл помертвевшее лицо его, глаза искали слов... но сначала он не мог разобрать ничего: все строчки казались перемешанными, все буквы не на своих местах, наконец с величайшим трудом он прочел следующее: «Вы должны ненавидеть... нет! я не достойна вашей ненависти: это чувство слишком близко любви; вы должны, вы имеете полное право презирать меня. Не смею надеяться, что, открыв вам ужасную тайну, которую думала унести с собой в могилу, я заставлю вас пожалеть обо мне. Я вас не знала еще, Рославлев, когда полюбила того, кому принадлежу теперь навсегда. Он любил меня, но тогда он не мог еще быть моим мужем. Я не могла даже мечтать, что встречусь с ним в здешнем мире, и, несмотря на это, желания матушки, просьбы сестры моей, ничто не поколебало бы моего намерения остаться вечно свободною; но бескорыстная любовь ваша, ваше терпенье, постоянство, делание видеть счастливым человека, к которому дружба моя была так же беспредельна, как и любовь к нему, — вот что сделало меня виновною. Безумная! я обманывала сама себя! Я думала, что, видя вас благополучным, менее буду несчастлива; что, произнеся клятву любить вас одного, при помощи божией, я забуду все прошедшее; что образ того, кто преследовал меня наяву и во сне, о ком я не могла и думать без преступления, изгладится навсегда из моей памяти. Я согласилась принадлежать вам и, клянусь богом, не изменила бы моему обещанию, если бы он встретился со мною во всем прежнем своем блеске, благолучный, одаренный всем, чему завидуют в свете. Но он явился предо мною покрытый ранами, несчастный, всеми оставленный и с прежней любовью в сердце! Казалось, сами небеса желали соединить нас — он мог располагать своей рукою, и вы, Рославлев, вы сами показали ему дорогу в дом наш!..» — Довольно! — вскричал Рославлев, сжимая с судорожным движением в руке своей измятое письмо. — Чего еще мне надобно? Егор! лошадей! — Как, сударь? Вы хотите ехать? — Да! — Не видев вашей невесты? — Молчи! — Помилуйте, сударь! Как вам ехать сегодня? — Да! сегодня... сейчас... сию минуту!.. — Но куда, сударь? К нам в деревню? — Нет! здесь мне душно... Дальше, дальше! Туда, где я могу утонуть в крови злодеев-французов. — Говорят, сударь, что они недалеко от Москвы. — Недалеко? Итак, в Москву! — А рана ваша? — Не бойся! Я умру не от нее. Ступай скорее! Ямщик, который нас привез, верно, еще не уехал. Чтоб чрез полчаса нас здесь не было. Ни слова более! — продолжал Рославлев, замечая, что Егор готовился снова возражать, — я приказываю тебе! Постой! Вынь из шкатулки лист бумаги и чернильницу. Я хочу, я должен отвечать ей. Теперь ступай за лошадьми, — прибавил он, когда слуга исполнил его приказание. — Но если ямщик попросит двойные прогоны? — Дай вчетверо, но чтоб чрез полчаса нас здесь не было. Егор вышел, а Рославлев начал писать следующее: «Я не дочитал письма вашего. Вы графиня Сеникур, жена пленного француза, — на что мне знать остальное? Не о себе хочу я говорить — моя участь решена: смерть возвратит мне спокойствие; она потушит адское пламя, которое горит теперь в груди моей; но вы!.. Слушайте приговор ваш! Вы не умрете ни от стыда, ни от раскаяния; проклятие всех русских, которое прогремит над преступной главой вашей, не убьет вас — нет! вы станете жить. Прижав к сердцу обагренную кровью русских, кровью братьев ваших, руку мужа, вы пойдете вместе с ним по пути, устланному трупами ваших соотечественников. Торжествуйте вместе с ним каждую победу злодеев наших! Забудьте, что вы русская, забудьте бога... Да! вы должны выбирать одно из двух: или вовсе забыть его, или молить, чтоб он помог французам погубить Россию. В этой смертной борьбе нет средины или мы, или французы должны погибнуть; а вы — жена француза! Умрите, несчастная, умрите сегодня, если можно, — я желаю этого. Да, Полина, я молю об этом бога... Я чувствую... да, я чувствую, что еще люблю вас!..» Рославлев перестал писать; крупные слезы покатились градом по лицу его. — А! Владимир Сергеевич! — сказал лекарь, входя в комнату, — вы уж и встали? Ну что, как вы себя чувствуете? Рославлев закрыл платком глаза и не отвечал ни слова. Лекарь взял его за руку и, поглядев на него с состраданием, повторил свой вопрос. — Я здоров, — отвечал Рославлев, — и сейчас еду. — Что вы? Как это можно? У вас жар. — Вы ошибаетесь, — перервал Рославлев, положив руку на грудь свою. — Здесь холодно, как в могиле. — Вам надобен покой. — Не бойтесь! — сказал с горькой улыбкою Pocлавлев. — Я найду его. — Но по крайней мере, примите это лекарство и дайте мне перевязать вашу руку. — И, полноте! на что это? Я могу еще владеть саблею. Благодаря бога правая рука моя цела; не бойтесь, она найдет еще дорогу к сердцу каждого француза. Ну что? — продолжал Рославлев, обращаясь к вошедшему Егору. — Что лошади? — Привел, сударь! Рославлев встал и, шатаясь, подошел к лекарю. — Вот письмо к Палагее Николаевне, — сказал он. — Потрудитесь отдать его. Прощайте! Лекарь взял молча письмо и вышел вслед за Рославлевым на крыльцо. — Прощайте, прощайте... — повторял Рославлев, садясь в телегу. — Скажите ей... Нет! не говорите ничего!.. — Я сегодня поутру ее видел, — сказал вполголоса лекарь, — и если б вы на нее взглянули... Ах, Владимир Сергеевич! она несчастнее вас! — Слава богу! Итак, этот француз не совсем еще задушил в ней совесть! — Я лекарь, Владимир Сергеевич; я привык видеть горесть и отчаяние; но клянусь вам богом, в жизнь мою не видывал ничего ужаснее. Она в полной памяти, а говорит беспрестанно о церковной паперти; видит везде кровь, сумасшедшую Федору; то хохочет, то стонет, как умирающая; а слезы не льются... — Ступай! — закричал Рославлев. Извозчик тронул лошадей. — Нет, нет! постой! Итак, она очень несчастлива? — продолжал он, обращаясь к лекарю, — Очень?.. Послушайте! скажите ей, что я здоров... что она.. подайте назад мое письмо. Лекарь подал ему письмо; Рославлев схватил его, изорвал и закричал извозчику: — Пять рублей на водку, но до самой станции вскачь — пошел! Менее чем в два часа примчались они на первую станцию. Рославлев, несмотря на убеждения своего слуги, не хотел отдохнуть; он уверял, что чувствует себя совершенно здоровым; но его пылающие щеки, дикой, беспокойный взгляд — все доказывало, что сильная горячка начинает свирепствовать в крови его. Переменив лошадей, они поскакали далее. Не более двадцати верст оставалось до Москвы. Они не обогнали никого, но почти на каждой версте встречались с ними проезжие; не слышно было веселых песен извозчиков; молча, как в похоронном ходу, тянулись по большой Московской дороге целые обозы экипажей. Многие из проезжающих, идя задумчиво: подле карет своих, обращали от времени до времени свой тоскливый взгляд туда, где позади их осталась опустевшая Москва. Быть может, они в последний раз простились с нею. Их пасмурные лица казались еще грустнее от противуположности с веселыми и беззаботными лицами детей, которые, выглядывая из дорожных экипажей, с шумной радостью любовались открытыми полями и зеленеющимся лесом. — Что это, барин? — сказал Егор, — никак, из Москвы все выбираются? Посмотрите-ка вперед — повозок-то, карет!.. Видимо-невидимо! Ох, сударь! знать, уже французы недалеко от Москвы. — Ах, как бы я желал этого! — сказал Рославлев. — Что вы? Христос с вами! Эх, барин, барин! не хороши у вас глаза: вы точно нездоровы. — И, врешь! я совершенно здоров; но мне душно... здесь все так тихо, мертво... В Москву, скорей в Москву!.. Там наши войска, там скоро будут французы... там, на развалинах ее, решится судьба России... там... Да, Егор! там мне будет легче... Пошел!.. Егор покачал печально головою. — Послушайте, Владимир Сергеич, — сказал он, — не приостановиться ли нам где-нибудь? Мне кажется, у вас жар. — Да! Мне что-то душно, жарко; здесь и воздух меня давит. — Вот ямщик будет спускать с горы, а вы пройдитесь пешком, сударь; это вас поосвежит. Рославлев слез с телеги и, пройдя несколько шагов по дороге, вдруг остановился. — Слышишь, Егор? — сказал он, — выстрел, другой!.. — Верно, кто-нибудь охотится. — — Еще!.. еще!.. Нет, это перестрелка!.. Где моя сабля? — Помилуйте, сударь! Да здесь слыхом не слыхать о французах. Не казаки ли шалят?.. Говорят, здесь их целые партии разъезжают. Ну вот, изволите видеть? Вон из-за леса-то показались, с пиками. Ну, так и есть — казаки. С полверсты от того места, где стоял Рославлев, выехали на большую дорогу человек сто казаков и почти столько же гусар. Впереди отряда ехали двое офицеров: один высокого роста, в белой кавалерийской фуражке и бурке; другой среднего роста, в кожаном картузе и зеленом спензере (куртка (от англ. spencer)) с черным артиллерийским воротником; седло, мундштук и вся сбруя на его лошади были французские. Когда отряд поравнялся с нашими проезжими, то офицер в зеленом спензере, взглянув на Рославлева, остановил лошадь, приподнял вежливо картуз и сказал: — Если не ошибаюсь, мы с вами не в первый раз встречаемся? Рославлев тотчас узнал в сем незнакомце молчаливого офицера, с которым месяца три тому назад готов был стреляться в зверинце Царского Села; но теперь Рославлев с радостию протянул ему руку: он вполне разделял с ним всю ненависть его к французам. — Ну вот, — продолжал артиллерийской офицер, — предсказание мое сбылось вы в мундире, с подвязанной рукой и, верно, теперь не станете стреляться со мною, чтоб спасти не только одного, но целую сотню французов. — О, в этом вы можете быть уверены! — отвечал Рославлев, и глаза его заблистали бешенством. — Ах! если б я мог утонуть в крови этих извергов!.. Офицер улыбнулся. — Вот так-то лучше! — сказал он. — Только вы напрасно горячитесь: их должно всех душить без пощады; переводить, как мух; но сердиться на них... И, полноте! Сердиться нездорово! Куда вы едете? — В Москву. — Если для того, чтоб лечиться, то я советовал бы вам поехать в другое место. Близ Можайска было генеральное сражение, наши войска отступают, и, может быть, дня через четыре французы будут у Москвы. — Тем лучше! Там должна решиться судьба нашего отечества, и если я не увижу гибели всех французов, то, по крайней мере, умру на развалинах Москвы. — А если Москву уступят без боя? — Без боя? Нашу древнюю столицу? — Что ж тут удивительного? Ведь город без жителей — то же, что тело без души. Пусть французы завладеют этим трупом, лишь только бы нам удалось похоронить их вместе. — Как? Вы думаете?.. — Да тут и думать нечего. Отпоем за один раз вечную память и Москве и французам, так дело и кончено. Мы, русские, дележа не любим: не наше, так ничье! Как на прощанье зажгут со всех четырех концов Москву, так французам пожива будет небольшая; побарятся, поважничают денька три, а там и есть захочется; а для этого надобно фуражировать. Милости просим!.. То-то будет потеха! Они начнут рыскать во круг Москвы, как голодные волки, а мы станем охотиться. Чего другого, а за одно поручиться можно: немного из этих фуражиров воротятся во Францию. — Итак, вы полагаете, что партизанская война... — Не знаю, что вперед, а теперь это самое лучшее средство поравнять наши силы. Да вот, например, у меня всего сотни две молодцов; а если б вы знали, сколько они передушили французов; до сих пор уж человек по десяти на брата досталось. Правда, народ-то у меня славный! — прибавил артиллерийской офицер с ужасной улыбкою, — всё ребята беспардонные; сантиментальных нет! — Неужели вы в плен не берете? — Случается. Вот третьего дня мы захватили человек двадцать, хотелось было доставить их в главную квартиру, да надоело таскать с собою. Я бросил их на дороге, недалеко отсюда. — Без всякого конвоя? — И что за беда! Их приберет земская полиция. Ну, что? Вы все-таки поедете в Москву? — Непременно. Вы можете думать, что вам угодно; но я уверен: ее не отдадут без боя. Может ли быть, чтоб эта древняя столица царей русских, этот первопрестольный город... — Первопрестольный город!.. Так что ж? Разве его никогда не жгли и не грабили то поляки, то татары? Пускай потешатся и французы! Прежние гости дорого за это заплатили, поплатятся и эти. Конечно, патриоты вздохнут о Кремле, барыни о Кузнецком мосте, чувствительные люди о всей Москве — расплачутся, разревутся, а там начнут снова строить дома, и через десять лет Москва будет опять Москвою. Да только уж в другой раз французы не захотят в ней гостить. Ну, прощайте!.. А право, я советовал бы вам не ездить в Москву. Вам надо полечиться: лицо у вас вовсе не хорошо. — Это ничего: два дня покоя, потом сраженье под Москвой, и я буду совершенно здоров. Прощайте! Рославлев сел в телегу и отправился далее. С каждым шагом вперед большая дорога становилась похожее на проезжую улицу: сотни пешеходцев пробирались полями и опереживали длинные обозы, которые медленно тащились по большой дороге. Когда наши путешественники поравнялись с лесом, то Егор заметил большую толпу разного состояния проходящих, которые, казалось, с любопытством теснились вокруг одного места, подле самой опушки леса. Несколько минут он смотрел внимательно в эту сторону, вдруг толпа раздвинулась, и Егор вскричал с ужасом: — Посмотрите-ка, сударь, посмотрите! Французы! — Французы! — повторил Рославлев, схватясь за рукоятку своей сабли. — Где?.. — Да разве не видите, сударь? Вон налево-то, подле самого леса. — Боже мой! — вскричал Рославлев, закрыв рукою глаза. — Боже мой! — повторил он с невольным содроганием. — Я сам... да, я ненавижу французов; но расстреливать хладнокровно беззащитных пленных!.. Нет! это ужасно!.. — И, барин, что об них жалеть! — сказал ямщик, — буяны!.. А кучка порядочная! Посмотрите-ка, сударь, сколько их навалено. — Проезжай скорей! — закричал Рославлев. — Пошел! Извозчик нехотя погнал лошадей и, беспрестанно оглядываясь назад, посматривал с удивлением на русского офицера, который не радовался, а казалось, горевал, видя убитых французов. Рославлев слабел приметным образом, голова его пылала, дыханье спиралось в груди; все предметы представлялись в каком-то смешанном, беспорядочном виде, и холодный осенний воздух казался ему палящим зноем. Через час сверкнул вдали позлащенный крест Ивана Великого, через несколько минут показались главы соборных храмов, и древняя столица, сердце, мать России — Москва, разостлалась широкой скатертью по необозримой равнине, усеянной обширными садами. Москва-река, извиваясь, текла посреди холмистых берегов своих; но бесчисленные барки, плоты и суда не пестрили ее гладкой поверхности; ветер не доносил до проезжающих отдаленный гул и невнятный, но исполненный жизни говор многолюдного города; по большим дорогам шумел и толпился народ; но Москва, как жертва, обреченная на заклание, была безмолвна. Изредка, кой-где, дымились трубы, и, как черный погребальный креп, густой туман висел над кровлями опустевших домов. Ах, скоро, скоро, кормилица России — Москва, скоро прольются по твоим осиротевшим улицам пламенные реки; святотатственная рука врагов сорвет крест с твоей соборной колокольни, разрушит стены священного Кремля, осквернит твои древние храмы; но русские всегда возлагали надежду на господа, и ты воскреснешь, Москва, как обновленное, младое солнце, ты снова взойдешь на небеса России; а враги твои... Ах! вы не воскреснете, несчастные жертвы властолюбия: воины, поседевшие в боях; юноши, краса и надежда Франции; вы не обнимете родных своих! Ваши кости, рассеянные по обширным полям нашим, запашутся сохою, и долго, долго изустная повесть об ужасной смерти вашей будет приводить в трепет каждого иноземца! ГЛАВА VII Рано поутру, на высоком и утесистом берегу Москвы-реки, в том самом месте, где Драгомиловский мост соединяет ямскую слободу с городом, стояли и сидели отдельными группами человек пятьдесят, разного состояния, людей; внизу весь мост был усыпан любопытными, и вплоть до самой Смоленской заставы, по всей слободе, как на гулянье, шумели и пестрелись густые толпы народные. По Смоленской дороге отступали наши войска, через Смоленскую заставу проезжали курьеры с известиями из большой армии; а посему все оставшиеся жители московские спешили к Драгомиловскому мосту, чтоб узнать скорее об участи нашего войска. Последствия Бородинского сражения были еще неизвестны; но грозные слухи о приближении французов к Москве становились с каждым днем вероподобнее. Вот вдали зазвенел колокольчик, раздался шум, по слободе от заставы несется тройка курьерских, народ зашевелился, закипел, толпы сдвинулись, и ямщик должен был поневоле остановить лошадей. — Что вы, ребята? — закричал курьер. — Посторонитесь! — Нет, нет! — загремели тысячи голосов, — скажи прежде, что наши? — Вам это объявят. — Нет! ты едешь из армии — говори!.. Что светлейший?.. что французы? — Победа! ребята, победа!.. — Победа?.. — повторил народ. — Слава тебе господи!.. К Иверской, православные! к Иверской!.. Пропустите курьера... посторонитесь!.. Победа!.. — Толпа отхлынула, и курьер помчался далее. Один молодцеватый, с окладистой темно-русой бородою купец, отделясь от толпы народа, которая теснилась на мосту, взобрался прямой дорогой на крутой берег Москвы-реки и, пройдя мимо нескольких щеголевато одетых молодых людей, шепотом разговаривающих меж собою, подошел к старику, с седой, как снег, бородою, который, облокотясь на береговые перила, смотрел задумчиво на толпу, шумящую внизу под его ногами. — Слышите ли, Иван Архипович, — сказал молодой купец старику, — победа? — Слышу, батюшка Андрей Васьянович! — отвечал старик, — слышу. Да точно ли так? — Дай-то господи!.. а что-то не верится. Я сам слышал, как курьер сказал: победа! Слова радостные, да лицо-то у него вовсе не праздничное. Кабы в самом деле заступница помогла нам разгромить этих супостатов, так он не стал бы говорить сквозь зубы, а крикнул бы так, что сердце бы у всех запрыгало от радости. Нет, Иван Архипович! видно, худо дело!.. — Да, батюшка, гнев божий!.. Мы всё твердили, что господь долготерпелив и многомилостив, а никто не думал, что он же и правосуден; грешили да грешили — вот и дождались, что нехотя придет каяться. — Конечно, Иван Архипыч, в грехах надобно каяться, а все-таки живым в руки даваться не должно; и если Москву будут отстаивать, то я уж, верно, дома не останусь. — И мои сыновья говорят то же; да, полно, будут ли ее отстаивать? Хоть и в сегодняшней афишке напечатано, что скоро понадобятся молодцы и городские и деревенские, а все заставы отперты, и народ валом валит вон из города. Нет, Андрей Васьянович, несдобровать матушке-Москве: дожили мы опять до татарского погрома. — А может быть, и до Мамаева побоища. Эх, Иван Архипович, унывать не должно! Да если господь попустит французам одолеть нас теперь, так что ж? У нас благодаря бога не так, как у них, — простору довольно. Погоняются, погоняются за нами, да устанут; а мы все-таки рано или поздно, а свое возьмем. — Так ты, батюшка, хочешь, если придет беда неминучая, уйти также из Москвы? — А что ж? или принимать французов с хлебом да с солью? А вы, Иван Архипович? — Эх, родимый! куда я потащусь? Старик я дряхлой; да и Мавра-то Андревна моя насилу ноги таскает. — Конечно; вот я человек одинокой! котомку за плеча, да и пошел куда глаза глядят. — У меня же есть большая забота, Андрей Васьянович! На кого я покину здесь моего гостя? — Гостя? какого гостя? — А вот изволишь видеть: вчерась я шел от свата Савельича так около сумерек; глядь — у самых Серпуховских ворот стоит тройка почтовых, на телеге лежит раненый русской офицер, и слуга около него что-то больно суетится. Смотрю, лицо у слуги как будто бы знакомое; я подошел, и лишь только взглянул на офицера, так сердце у меня и замерло! Сердечный! в горячке, без памяти, и кто ж?.. Помнишь, Андрей Васьянович, месяца три тому назад мы догнали в селе Завидове проезжего офицера? — Который довез вас до Москвы в своей коляске? Как не помнить; я и фамилию его не забыл. Кажется, Рославлев?.. — Да, он и есть! Гляжу, слуга его чуть не плачет, барин без памяти, а он сам не знает, куда ехать. Я обрадовался, что господь привел меня хоть чем-нибудь возблагодарить моего благодетеля. Велел ямщику ехать ко мне и отвел больному лучшую комнату в моем доме. Наш частной лекарь прописал лекарство, и ему теперь как будто бы полегче; а все еще в память не приходит. — Что ж вы будете делать, если французы войдут в Москву? Ведь его, как пленного офицера, у вас не оставят. — Уж я обо всем с домашними условился: мундир его припрячем подале, и если чего дойдет, так я назову его моим сыном. Сосед мой, золотых дел мастер, Франц Иваныч, стал было мне отсоветывать и говорил, что мы этак беду наживем; что если французы дознаются, что мы скрываем у себя под чужим именем русского офицера, то, пожалуй, расстреляют нас как шпионов; но не только я, да и старуха моя слышать об этом не хочет. Что будет, то и будет, а благодетеля нашего не выдадим. — Сохрани боже выдать! Только напрасно об этом сосед-то ваш знает. Смотрите, чтоб этот Франц Иваныч... — Нет, Андрей Васьянович! Конечно, сам он от неприятеля не станет прятать русского офицера, да и на нас не донесет, ведь он не француз, а немец, и надобно сказать правду — честная душа! А подумаешь, куда тяжко будет, если господь нас не помилует. Ты уйдешь, Андрей Васьянович, а каково-то будет мне смотреть, как эти злодеи станут владеть Москвою, разорять храмы господни, жечь домы наши... — Моих замоскворецких домов не сожгут, Иван Архипович! — А почему так? — Да потому, что прежде чем французская нога переступит через мой порог, я запалю их сам своей рукою; я уж на всякой случай и смоляных бочек припас. Вчера разговорились со мной об этом молодцы из Каретного ряда и они то же поют. Не много французов станет разъезжать в русских каретах, и если подлинно Москвы отстаивать не будут, хоть то порадует наше сердце, что этот Бонапартий гриб съест. Чай, он теперь рассуждает с своими генералами, какая встреча ему будет; делает раскладку да подводит итоги, сколько надо собрать с нас контрибуции. Дожидайся, голубчик! много возьмешь! поднесем мы тебе хлеб с солью! Разве один Кузнецкой мост выйдет к тебе навстречу да с полсотни таких же шалобаев, как эти молокососы, — прибавил купец, указывая на троих молодых людей, которые вполголоса разговаривали меж собою. — Слышите ль, Иван Архипович? ведь они по-французски говорят. — И, батюшка, какое нам до этого дело? Видно, магазинщики с Кузнецкого моста, так и говорят по-своему. — Нет, Иван Архипович! один-то из них русской и наш брат купец — вон что в синем сюртуке. Я уж не в первый раз его вижу. Не знаю, чем он торговал прежде, а теперь, кажется, за дурной взялся промысел. Ну то ли время, чтоб русскому якшаться с французами? А у него другой компании нет. Слышите ли, как он им напевает? и, верно, что-нибудь благое. Отчего они так робко вокруг себя посматривают? Для чего говорят вполголоса? Глядите!.. Вытащил из кармана бумагу... читает им.... Хоть сейчас голову на плаху, а тут есть что-нибудь недоброе!.. Видите ли, как у этих французов рожи расцвели — так и ухмыляются!.. Эх, если б выведать как-нибудь!.. Постойте-ка, авось удастся!.. Купец подошел к молодому человеку в синем сюртуке и, поклонись ему вежливо, сказал вполголоса: — Позвольте мне вас предостеречь, батюшка. Вы, кажется, русской? Молодой человек спрятал поспешно в карман бумагу, которую читал своим товарищам, и, взглянув недоверчиво на купца, отвечал отрывистым голосом: — Да, сударь!.. Что вам угодно? — А эти господа, кажется, французы? — Ну да! Так что ж? — Да так, батюшка; вы с ними говорите по-французски, стоите вместе... — Так что ж? — повторил молодой человек. — Разве это уголовное преступление? Они мои приятели. — И может быть, пречестные люди, да время-то не то, батюшка. — Я во всякое время вправе говорить с моими приятелями и желал бы знать, кто может запретить мне?.. — Уж, конечно, не я. По мне тут нет ничего худого, а еще, может быть, это знакомство и очень вам пригодится. Да простой-то народ глуп, батюшка! пожалуй, сочтут вас шпионом. Поди толкуй им, что не их дело в это мешаться, что мы люди не военные, что в чужих землях войска дерутся, а обыватели сидят смирно по домам; и если неприятель войдет в город, так для сохранения своих имуществ принимают его с честию. Что в самом деле! не нами свет начался, не нами кончится. Когда везде уж так заведено, так нам-то к чему быть выскочками? Молодой человек улыбнулся с удовольствием и, поглядев пристально на купца, сказал: — Я вижу, что вы, несмотря на ваш костюм, человек просвещенный и не убежите из Москвы, когда Наполеон войдет в нее победителем. — Нет, батюшка!.. У меня здесь два дома и три лавки, так слуга покорный. Если будут какие поборы, так что ж? лучше отдать половину, чем все потерять. — Половину? Да кто вам сказал, что вы отдадите что-нибудь? С чего вы взяли, что французы грабители? Я вижу, вы человек умный; неужели вы в самом деле верите тому, в чем нас стараются уверить? Пора, кажется, нам перестать быть варварами и хотя несколько походить на других европейцев. Помилуйте! бежать вон из города!.. Да разве французы татары? Французы самая великодушная и благородная нация в Европе. Знаете ли, чего боится наше правительство? Не французов, а просвещения, которое они принесут вместе с собою. Поверьте мне, если б московские жители встретили Наполеона с должной почестью... — Эх, батюшка! за этим бы дело не стало, да ведь бог весть! Ну как в самом деле он примется разорять нас? Кто знает, что у него на уме? — Кто знает? Многие это знают. И если хотите, — прибавил молодой человек почти шепотом, — и вы будете это знать. — Как не хотеть, батюшка. Как знаешь, чего ждать, так все-таки куражнее. А разве вам что-нибудь известно? — Да!.. но говорите тише. У меня есть прокламация Наполеона к московским жителям. — Прокламация?.. — То есть воззвание, манифест. — В самом деле, — вскричал купец с живостию; но вдруг, понизив голос, продолжал: — Прокламация, сиречь манифест? Понимаю, батюшка! Эх, жаль!.. Чай, писано по-французски? — У меня есть и перевод. — Перевод? Покажите-ка, отец родной! Да кто это добрый человек потрудился перевести? Уж не вы ли, батюшка? — Я или не я, какое вам до этого дело; только перевод недурен, за это я вам ручаюсь, — прибавил с гордой улыбкою красноречивый незнакомец, вынимая из кармана исписанную кругом бумагу. Купец протянул руку; но в ту самую минуту молодой человек поднял глаза и — взоры их встретились. Кипящий гневом и исполненный презрения взгляд купца, который не мог уже долее скрывать своего негодования, поразил изменника; он поспешил спрятать бумагу опять в карман и отступил шаг назад. — Ни с места, предатель! — закричал купец, схватив его за ворот. — Подай бумагу! Молодой человек побледнел как смерть, рванулся из всей силы и, оставив в руке купца лоскут своего сюртука, ударился бежать. — Держите! — закричал купец, — православные, держите! Это шпион, изменник!.. Но вдруг из толпы, которая стояла под горою, раздался громкой крик. «Солдаты, солдаты! Французские солдаты!..» — закричало несколько голосов. Весь народ взволновался; передние кинулись назад; задние побежали вперед, и в одну минуту улица, идущая в гору, покрылась народом. Молодой человек, пользуясь этим минутным смятением, бросился в толпу и исчез из глаз купца. — Ушел, разбойник! — сказал он, скрыпя от бешенства зубами. — Да несдобровать же тебе, Иуда-предатель! Господи боже мой, до чего мы дожили! Русской купец — и, может быть, сын благочестивых родителей!.. Меж тем небольшой отряд, наделавший так много тревоги, приблизился к мосту; впереди шло человек пятьсот безоружных французов, и не удивительно, что они перепугали народ. Издали их нельзя было принять за пленных, которых обыкновенно водят беспорядочной толпою. Напротив, эти французы шли по улице почти церемониальным маршем, повзводно, тихим, ровным шагом и даже с наблюдением должной дистанции. Конвой, состоящий из полуроты пехотных солдат, шел позади, а сбоку ехал на казацкой лошади начальник их, толстый, лет сорока офицер, в форменном армейском сюртуке; рядом с ним ехали двое русских офицеров: один раненный в руку, в плаще и уланской шапке; другой в гусарском мундире, фуражке и с обвязанной щекою. Гусарской офицер первой заметил ошибку народа. — Посмотрите, Зарядьев, — сказал он пехотному офицеру, — ведь нас приняли за французов; а все ты виноват: твои пленные маршируют, как на ученье. — А по-твоему, лучше бы, — возразил пехотной офицер, — чтоб они шли как попало. Если б им от этого было легче, то так бы уж и быть; а то что толку? Как хочешь иди, а переход надобно сделать. Посмотришь у других — терпеть не могу — разбредутся по сторонам: одни убегут вперед, другие оттянут за версту; ну то ли дело, когда идут порядком? Самим веселее. Эй, Демин! — продолжал он, обращаясь к видному унтер-офицеру, — забеги вперед и приостанови первый взвод. Куда торопятся эти французы! Да посмотри, правой-то фланг совсем завалился. Уланской офицер улыбнулся. — Ну что ты смеешься, Сборской? — сказал гусарской офицер. — Зарядьев прав: он любит дисциплину и порядок, зато, посмотри, какая у него рота; я видел ее в деле — молодцы! под ядрами в ногу идут. — Что ты, Зарецкой! Я вовсе не думал смеяться; да признаюсь, мне и не до того: рука моя больно шалит. Послушай, братец! Наше торжественное шествие может продолжиться долго, а дом моей тетки на Мясницкой: поедем скорее. — Поедем. Оба кавалериста кивнули головами Зарядьеву и пустились рысью к Смоленскому рынку. — Ты долго проживешь в Москве? — спросил Зарецкой своего товарища. — Долго? Да разве это зависит от меня? Может быть, дня через три сюда пожалуют гости, с которыми я пировать вовсе не намерен. — Так ты полагаешь, что их не встретят?.. — Пушечными выстрелами? Вряд ли. Да и депутации также не будет. — Ну, бог знает. Я думаю, в Москве наберется еще десятка два-три французских учителей; Наполеон назовет их в своем бюллетене сенаторами, а добрые парижане всему поверят. Однако же, что ни говори, а свое поневоле любишь. Я терпеть не могу Москвы, а теперь мне ее жаль. В прошлую зиму я прожил в ней два месяца и чуть не умер с тоски: театр предурной, балы прескучные, а сплетней, сплетней!.. Ну, право, здесь в одни сутки услышишь больше комеражей (сплетен (от фр. commerages)), чем в круглый год в нашем благочестивом Петербурге, который также не очень забавен — надобно отдать ему эту справедливость. — А где же, по-твоему, весело? — Где? да там, где некогда подумать о деле; например — в Париже. — И, милый! Париж от нас так далеко. — Не дальше и не ближе, как Москва от французов. Что если бы... на свете все круговая порука, и ежели французы побывают в Москве, так почему бы, кажется, и нам не загулять в Париж? К тому ж и вежливость требует... — А что ты думаешь? В самом деле, не заготовить ли нам визитных карточек? — Ах, черт возьми! То-то бы повеселились! А кажется, они в Москве не очень будут веселиться. Посмотри-ка: по всей Арбатской улице ни одной души. Ну, чего другого, а французам простор будет славный! В самом деле, от Драгомиловского моста до самой Мясницкой они встретили не более трехкарет, запряженных по-дорожнему, и только на Красной площади и около одного дома, на Лубянке, толпился народ. — Что это? — сказал Сборской, подъезжая к длинному деревянному дому. — Ставни закрыты, ворота на запоре. Ну, видно, плохо дело, и тетушка отправилась в деревню. Тридцать лет она не выезжала из Москвы, лет десять сряду, аккуратно каждый день, делали ее партию два бригадира и один отставной камергер. Ах, бедная, бедная! С кем она будет теперь играть в вист? — Ну, братец, куда же нам деваться? — спросил Зарецкой. — А вот посмотрим; верно, хоть дворник остался. Офицеры слезли с лошадей, начали стучаться, и через несколько минут вышел на улицу старик в изорванной фризовой шинели. — Ах, батюшка! Это вы, Федор Васильич! — сказал он, увидя Сборского. — Здравствуй, Федот! Ну что, тетушка в деревне? — Да, сударь; изволила уехать. Думала, думала да вдруг поднялась; вчера поутру закрутила так, что и боже упаси! Порядком заложить не успели. Ох, батюшка! Видно, злодеи-то наши недалеко? — Нет, еще не близко. Ну что, есть ли у тебя что-нибудь съестное? — Как же, сударь, весь годовой запас: мука, крупа, овес, сушеные куры, вяленая рыба, гусиные полотки, масло. — Так мы и наши лошади с голоду не умрем? Слава богу! — А есть ли у вас что-нибудь в подвале? — спросил Зарецкой. — Как же, сударь! одних виноградных вин дюжины четыре будет. — Славно! — закричал Сборской. — Смотри, Зарецкой, больше пить, чтоб французам ни капли не осталось. — Ну, Федот, отпирай ворота! Пойдем, братец! Делать нечего, займем парадные комнаты. Пройдя через обширную лакейскую, в которой стены, налакированные спинами лакеев, ничем не были обиты, они вошли в столовую, оклеенную зелеными обоями; кругом в холстинных чехлах стояли набитые пухом стулья; а по стенам висели низанные из стекляруса картины, представляющие попугаев, павлинов и других пестрых птиц. — Ну, братец! — сказал Зарецкой, — мы проживем здесь дни два, три, а потом... — А потом, когда нагрянут незваные гости, я отправлюсь лечиться в Калугу. А ты? — Если щеке моей будет легче, пристану опять к нашему войску; а если нет, то поеду отсюда к приятелю моему Рославлеву. — К Рославлеву? — Да, он лечит теперь и руку и сердце подле своей невесты, верст за пятьдесят отсюда. Однако ж знаешь-ли что? Если в гостиной диваны набиты так же, как здесь стулья, то на них славно можно выспаться. Мы почти всю ночь ехали, и не знаю, как ты, а я очень устал. — Ну, хорошо, отдохнем! Да не послать ли. дворника отыскать какого-нибудь лекаришку? Нам надобно перевязать наши раны. — Да, не мешает. Ах, черт возьми! Я думал, что французской латник только оцарапал мне щеку; а он, видно, порядком съездил меня по роже. Офицеры послали дворника за лекарем, а сами пошли в гостиную и улеглись преспокойно на мягких шелковых диванах. — Ах, тетушка, тетушка! С каким бы гневом возопила ты на это нарушение всех приличий! Как ужаснулась бы, увидев шинели, сабли, мундиры, разбросанные по креслам твоей парадной гостиной, и гусарские сапоги со шпорами на твоем наследственном объяринном канапе. | Часть первая | Оглавление | Часть третья | Публикация подготовлена в рамках интернет-проекта «1812 год» О.В. Поляковым.
|