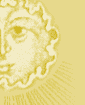Андрей Сафрыгин
«Пантеизм с человеческим лицом»
Персональная выставка (живопись, графика, объекты)
20 февраля - 7 марта 2013 г.
Музей А.А Ахматовой (Малый выставочный зал)
Тексты о художниках обычно пишутся по сценарию, соответствующему дедуктивному методу - от общего к частному, от обобщающих характеристик к деталям. В нашем случае хочется пойти скорее индуктивным путем - от частного к общему, от технических приемов к поэтике. Почему? Да потому что творческая логика художника, о котором пойдет речь, именно так и устроена. Но об этом позже, соблюдем интригу (тут можно поставить смайлик).
Знатокам «артистической кухни» художник дает богатую пищу для размышлений и изысканий, учитывая все многообразие используемых им техник и форматов. Тут и большие композиции на холсте маслом, и миниатюрные рисунки, цветовые акценты или монохромные объемы на которых часто доведены красками, и авторские трансформации классических техник графики и гравюры. В частности, обращаясь к монотипии, художник получает единственный отпечаток, не прибегая к станку, а рисуя по изнаночной стороне листа, наложенного на гладкую поверхность со слоем масляной краски. В результате на другой стороне отпечатывается изображение, еще более ручное и уникальное. Другая излюбленная хитрость Андрея – аккротаж. Рисунок процарапывается иголкой по глянцевой бумаге, затем при помощи кисточки наносится масло, краска остается в процарапанных линиях, а излишки снимаются, где и сколько нужно, что позволяет добиться одновременно и четкости рисунка, и разной глубины и насыщенности фона. Но и тут художник пошел дальше и стал наносить аккротажные рисунки на уже готовую полиграфическую продукцию и рекламные буклеты. Типографская краска ложится слоями, поэтому, процарапывая бороздки разной глубины, художник получает штрихи различных цветов. Обращается он и к редкому пока у нас методу рисования зентангл (перевести можно примерно как дзен-узел), используемому в арт-терапии. Он заключается в медитативном заполнении пространства сложным орнаментом из простых линий и закорючек. Эта причудливая вязь, перенесенная с полей тетрадок и блокнотов на регулярное поле изображения, позволяет передавать и эмоции, и архетипические образы. А забавные фигурки, которые автор делает из проволоки, могут работать самостоятельно, создавать интересные теневые эффекты при использовании источника света, а порой внедряются в живописное полотно, заселяя и обживая его, как дом, и делая трехмерным. Фактурность картинам Андрея Сафрыгина придает и использованием полимеров, которыми он формирует пастозные фигуры, знаки и выделенные границы живописных сегментов.
В методике работы над пластикой образов и системе мотивов художника чувствуется влияние учителя. Вячеслав Борисович Шрага оказался для Андрея не только наставником, но и единомышленником, автором мировоззренчески близким. Хотя, конечно же, ученик, отдавая дань уважения старшим, создает художественный мир по собственным законам. Главное качество его творчества – это динамика. В этом смысле его живопись более театральна, выстроена по принципам актерской игры, сценической, кинематографической или даже анимационной режиссуры. Художник не останавливает мгновение, как фотограф, а подчеркивает потенцию к движению. Его герои не позируют, а взаимодействуют между собой, и их отношения, выраженные в многогранной психофизике действия, становятся посылом, направленным к зрителю. Обращение к авангардной традиции ХХ века в работах художника смягчено и очеловечено романтической позицией, которую он занимает по отношению к мироустройству. Как мечтатель автор идеализирует мир, однако не созерцает его со стороны и строит воздушные замки, а смотрит изнутри с изрядной толикой юмора, чувство которого у художника весьма развито, но при этом чрезвычайно добродушно. Формальный эксперимент, идущий от Пикассо и Брака, трансформирован здесь в праздничность калейдоскопа. Целостность не разбивается, а собирается из фрагментов. Кусочки мира складываются не по принципу дробной мозаики, а скорее подобно витражу с крупными мазками цветных стекол, сквозь которые струится внутренний свет. Цветовая гамма даже в холодной части спектра оказывается настроенной мажорно. Чувствующая отсылка к шагаловской афористичности разворачивается в притчу, замаскированную под житейскую ситуацию, забавный случай или анекдот. В работах художника всегда есть история с четко означенным смысловым пуантом и системой персонажей.
Художественный мир Андрея Сафрыгина, действительно, густо населен. В центре - художник и его модели. А вокруг гуляют, сидят в кафе, посещают вернисажи, собирают черешни, влюбляются и целуются, пируют, засыпают и просыпаются. И не только люди, но и кошки, бараны, лошади, даже страусы, наравне в людьми участвующие в общем забеге. Все населяющие его произведения создания: земные, небесные и кишащие твари морские – все одинаково ценны, вписаны в миропорядок и создают единство всего сущего. От частных явлений и случаев художник идет к универсальным закономерностям, индуктивным путем подводит к пантеистической картине Вселенной, которая и есть Бог. Вселенная, нарисованная Андреем Сафрыгиным, устроена гармонично. Управляющие ей ангелы играют в шахматы, на случай дождя у всех есть зонтики, а все прочие случайности закономерны и безопасны. Эта гармония не вынесена в высшие сферы, а приближена к человеку. Ангелы летят с сумками по делам и магазинам, а Всеобщий Закон парадоксально воплощается в антропоморфной форме – в виде дяденьке в шляпе и шарфе, отставившем на соседнее облачко свою чашку и наблюдающем из небесных просветов за всем миром в целом и конкретно за девочкой, принесшей на подпись дневник с отметками. Хотя, в принципе, все предъявляют ему жизненный дневник на проверку. Получается пантеизм с человеческим лицом. А чаша и рыба выступают как узнаваемая религиозная символика. Но явственнее всего глобальная гармония воплощается в образах музыки. Большую часть населения этого мира составляют музыканты, разбросанные по картинам. Трубачи, барабанщики, пианисты… Музыка здесь состоит из мотивов простых, но мелодичных. Это не строгий симфонический оркестр, а скорее разношерстный, но слаженный джаз-бэнд, в котором гитарист похож на маленькую обезьянку. Так, хоть и ненадолго, художник позволяет современному человеку, запуганному повседневными реалиями, вернуть утерянное ощущения мира, где царят добро и любовь.
Артем Магалашвили, куратор выставки