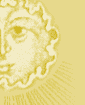25 ноября 2008 года объявлен VI грантовый конкурс музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире». Предлагаем вашему вниманию интервью с заместителем генерального директора Благотворительного фонда В. Потанина Натальей Юрьевной Самойленко.
Что можно сказать об итогах пятилетней деятельности конкурса? Изменилось ли что-нибудь за эти годы?
Мне кажется, что главный положительный итог заключается в том, что в России появился новый механизм для поддержки активных и творческих профессионалов из музейного сообщества. Дать возможность для творчества – вот что было нашей главной целью, когда мы задумывали конкурс. Для этого мы стремились создать удобные и открытые механизмы, которые позволили бы участвовать в конкурсе совершенно разным людям, работающим в музеях.
Конечно, мы живем в реальном мире и работаем с уже созданными музеями, и поэтому всегда стараемся понять, что там внутри происходит, какие есть проблемы, и соответственно адаптировать нашу работу. Вместе с тем мы стремимся сохранить то, ради чего конкурс задумывался, – создать возможность для творческих людей делать в музеях что-то новое и интересное.
Что вы считаете своими главными достижениями?
Наши достижения – это те открытия, которые произошли за время работы конкурса. Это и уникальные проектные решения, и сами музеи, и люди, в них работающие. Очень приятно, что наш конкурс помог целому ряду музейных специалистов стать настоящими лидерами в профессиональном и местном сообществе. Также мне очень приятно, что в некоторых крупных музеях появились совершенно неожиданные для них проекты, и это дало возможность по-новому раскрыться работающим там специалистам.
Для нас чрезвычайно важно, что благодаря конкурсу постепенно складывается сообщество профессионалов. Мы стараемся этому способствовать самыми разными способами: организуя проектные семинары, поездки по музеям Великобритании, которые у нас были два года подряд, и, конечно, привлекая людей к работе экспертами и региональными координаторами.
Но при этом творческая модель нашего конкурса такова, что она никогда нам не даст нам успокоиться, потому что сама среда будет подталкивать нас к новым решениям.
Как вы относитесь к тому, что наряду с конкурсом «Меняющийся музей в меняющемся мире» появились и другие похожие инициативы различных фондов? Например, конкурсы «Научный музей в XXI веке», «Музеи русского Севера»?
Я расцениваю это как главный плюс нашего проекта. Это показатель того, что люди считают наше дело успешным, и именно поэтому они пытаются повторить в определенной мере то, что мы делаем. А дальше все зависит от новых игроков на этом поле. Если они будут пытаться сделать кальку, то это тупиковый путь. Но если они, глядя на наш конкурс, будут изобретать свои модели и подходы - поддерживать музеи как-то иначе, чем это делаем мы, экспериментировать на поле конкурсного механизма - то это пойдет всем только на пользу. Нам, потому что мы не будем успокаиваться на достигнутом, и самому музейному сообществу, которому предоставляется гораздо больше возможностей.
Другое дело, что я отрицательно отношусь к тому, чтобы в этих конкурсах были задействованы одни и те же эксперты и члены жюри. Сейчас, пересматривая список наших экспертов, мы этот вопрос активно обсуждаем, и, скорее всего, будем настаивать на том, чтобы не было одной и той же команды, которая будет работать на разных конкурсах. Это не будет способствовать развитию музейного сообщества.
А каким образом вообще формируется экспертная группа?
Прежде всего должна сказать, что у нас работает две группы: экспертный совет и независимое жюри, которое, познакомившись с мнением экспертов, может принимать не зависящее от них свое собственное решение. В 80% случаев эти мнения совпадают, но есть примеры, когда члены жюри настаивают на своем.
Конечно, мы постоянно обновляем нашу экспертную команду. Новые люди – это прежде всего победители конкурса, те, кто как-то активно себя проявил. Конечно, при этом не должно возникать конфликта интересов, то есть если музей в очередной раз подает свою заявку, то в экспертном совете и в составе жюри не должно быть его представителя. Мы стремимся к тому, чтобы механизмы конкурсы были объективны и какие-либо элементы лоббирования были абсолютно исключены. Нам приходится расставаться с членами жюри тогда, когда их музеи подают заявки на конкурс. Кстати, далеко не все из этих заявок бывают поддержаны. Былая слава здесь роли не играет. Я очень горжусь тем, что нам удалось сформировать чрезвычайно придирчивое и заинтересованное жюри.
Как правильно написать заявку? Чтобы вы могли посоветовать проектировщикам? Какие ошибки чаще всего допускаются?
Прежде всего, мы больше расположены к заявкам, написанным человеческим языком. Мысль должна быть изложена максимально ясно, а не через какие-то сложные конструкции, демонстрирующие лишь ученость автора. На наш взгляд, это один из главных критериев успешности будущего проекта.
Во-вторых, особое внимание надо обратить на грамотно составленный бюджет. Нужно понимать, как потратить деньги, а не как их освоить. Нам очень не нравится, когда весь бюджет просто подгоняется под максимальную сумму гранта. Гораздо с большим уважением мы относимся к тем заявкам, в которых люди честно говорят, что нам нужно, скажем, не 200 рублей, а 155, или 202 рубля, и тогда мы вместе будем думать, как сделать так, чтобы заявитель получил грант.
Другая сложность - зачастую заявители забывают о том, что они работают в музее и что их главное дело – сохранение культурного наследия, с которым они должны уметь грамотно работать. Не нужно подменять музейную работу какими-то красивыми акциями. И если в одной заявке все выглядит эффектно и красиво, но имеет мало отношения к музею, а в другой, наоборот, все скромнее, но при этом продемонстрировано умение работать с наследием, то мы поддержим второй проект. Кроме того, не надо забывать о том, что проектант работает в музейном коллективе. И когда он придумывает свой проект, он должен собрать команду, уметь с этой командой работать.
И, конечно, очень важно уметь определить целевую аудиторию проекта. Музеи, в основном, предлагают некий продукт для всех: и для пенсионера, и для пионера, а это беда. Не может быть пионеру и пенсионеру одинаково интересно одно и то же. Особенно сейчас, когда молодые люди живут в совершенно ином информационном пространстве.
Чего, на ваш взгляд, больше всего боятся проектировщики, подавая заявку на грант?
Мне кажется, что основной страх связан с нашим требованием какой-то красивой, новой идеи. Мы действительно проводим конкурс ради того, чтобы эти идеи появлялись. Но при этом идут годы, мы растем вместе с конкурсом и понимаем, что это понятие новизны нужно трактовать более тонко. Ведь музейные технологии в конечном итоге ограничены, и что-то принципиально новое рождается редко. В этом году мы будем особенно внимательно относиться к тем проектам, которые предполагают использовать идеи, уже кем-то когда-то реализованные, не важно, у нас или за рубежом. Важно, чтобы эти идеи были грамотно использованы с учетом специфики конкретного музея, определенной целевой аудитории и пр. Используя то, что до тебя сделал кто-то другой, важно не создать кальку, а творчески переосмыслить этот материал и использовать его с учетом особенностей своего музея.
Часто бывает ли такое, что люди побеждали в конкурсе не с первого раза?
У нас есть целый ряд таких примеров. Здесь можно дать самый простой совет: если человек одну и ту же заявку просто посылает несколько раз, то это мало перспективно. А вот если он ее перерабатывает, обновляет, использует свой опыт, она становится, вообще-то говоря, другой, то тогда у этой заявки появляется шанс победить. Главное, не упорствовать в своих ошибках.
А бывает, что, не победив, человек получает больше пользы, чем ему принесла бы победа. У нас есть примеры, когда, стремясь выиграть в конкурсе, люди решают попутные задачи: находят партнеров, реализуют другие проекты. Есть люди, для которых конкуренция очень полезна, так как подстегивает их делать лучше свою работу, а есть те, кто в конкуренции тонут.
В профессиональной среде бытует мнение, что конкурс «Меняющийся музей в меняющемся мире» для сверхопытных профессионалов. Это так?
Нет, это ошибочное мнение, наш конкурс адресован профессионалам в широком смысле. Именно поэтому в нем два этапа. На первом мы рассматриваем заявки на уровне состязания идей. А уже потом, после образовательного семинара, где полуфиналисты получают дополнительные знания и навыки, мы производим окончательный отбор доработанных ими заявок. Таким образом попробовать свои силы могут все.
В связи с этим я бы хотела обратить внимание на два принципиальных нововведения. Во-первых, уже в прошлом году появилась «Авторская» номинация. Родилась она не случайно. По прошествии ряда лет сложилась ситуация, когда в конкурсе стали побеждать сформировавшиеся на нем проектанты. Исключать из процесса самых опытных и сильных не хотелось, поэтому мы для них ввели отдельную номинацию, где бы они соревновались между собой. Условия здесь, конечно, жесткие, зато и преимущества налицо: нет ограничений по темам, простор для фантазии дает возможность реализовать что-то уникальное. Кроме того, в этом году мы увеличиваем максимальный размер гранта в этой номинации до 1 млн. рублей. Хочу заострить внимание читателей, что к участию в этой номинации приглашаются авторы победивших заявок - подчеркиваю, именно авторы, а не музеи, где были реализованы заявки.
Довольны ли результатами первого года в этой номинации?
Если бы мы всем были довольны, то можно было бы закрываться. Мы довольны количеством заявок в «Авторской» номинации, но при этом всегда ждем от участников большего.
А какое второе нововведение?
Мы ввели квотирование по федеральным округам. В определенных регионах сложилось впечатление, что пробиться на наш конкурс невозможно. Поэтому мы решили пойти на очередной эксперимент - на этот раз с проектами, выходящими в полуфинал. В этом году каждому федеральному округу, Москве и отдельно «Авторской» номинации гарантируется по пять мест для участия в образовательном семинаре. Далее процедура экспертизы и отбора строится так же, как в предыдущие годы, т.е. по «гамбургскому» счету: в финал пройдут только самые сильные и интересные заявки, доработанные после семинара. Смысл эксперимента в том, чтобы посредством квотирования дать возможность людям, которые до настоящего времени не удавалось себя проявить, попасть на семинар, познакомиться с лучшим опытом, получить дополнительные знания и навыки, и, может быть, не с первого раза, но со второго точно победить в конкурсе.
С чем вы связываете, что одни регионы более сильные, а другие за пять лет так и не проявили себя?
Это может зависеть от самых разных обстоятельств. Причина может быть в координаторах; возможно, играет роль сарафанное радио внутри региона, специфика той или иной среды. Кроме того, не все одинаково хорошо умеют работать с Интернетом, а без этого участвовать в нашем конкурсе невозможно. Но это совсем не значит, что в том или ином регионе мало творческих людей.
Есть и объективные причины. Например, на Дальнем Востоке музеев значительно меньше, чем в Центральной России или во всей Сибири. Но, с другой стороны, за последние годы в нашем конкурсе победило несколько очень интересных проектов с Дальнего Востока. Это значит, что творческие люди на Дальнем Востоке есть, но у них гораздо меньше возможностей для дополнительного образования. Поэтому, если они используют механизм нашего конкурса для повышения квалификации, мы этому только рады. Вводя квотирование, мы не ориентируемся на количество музеев в том или ином регионе. Мы считаем, что сейчас важнее всего дать людям возможность войти в качественную профессиональную среду.
Каковы критерии успешности проекта?
Во-первых, проект, безусловно, можно считать удачным, если он продолжает жить и развиваться уже после того, как финансирование закончилось (если, конечно, это позволяет специфика проекта).
Во-вторых, если то, что было изобретено тем или иным автором, начинает использоваться в других музеях. Я рада тому, что, как мы уже говорили, появляются последователи как и у конкурса, а так и у наших проектантов в плане заимствования каких-то идей.
Третий критерий успешности - это дальнейший карьерный и творческий рост самого победителя конкурса – автора проекта. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы вместе с ним рос и его родной музей, но даже если этот человек вынужден будет по тем или иным причинам покинуть музей, ничего плохого в этом нет. Главное, чтобы эти творческие люди находили себе место в данной сфере.
А есть какие-то направления, которые, по вашему мнению, мало раскрыты в проектной деятельности музеев?
Мне кажется, что есть отдельная тема, которая совершенно незаслуженно забыта участниками нашего конкурса. Это работа с пожилыми людьми. Мы практически не даем возможности людям пенсионного возраста почувствовать себя уютно в музее. Ведь нормальный пенсионер – это надежная защита музея. А у нас работа с пенсионерами сводится только к тому, что им предоставляются рабочие места.
В рамках вашего конкурса вы проводили стажировки в Великобритании для победителей. Каковы результаты этих поездок?
Результаты, на мой взгляд, были прекрасными. Наши музейные специалисты значительно расширили свои представления о современных возможностях музея, что очень важно для их профессионального роста. Более того, после поездок появилось нескольких новых и очень ярких проектов, а это значит, что все было очень полезно.
В дальнейшем, если мы продолжим делать что-то подобное, то организуем все немного иначе. Поездки будут бонусами для тех, кто уже сделал проект, причем успешно. Ведь схема нашего конкурса - экспериментальная, т.е. мы даем деньги на эксперимент, который может закончиться по-разному. Вот мы и хотим дать дополнительный стимул нашим победителям, чтобы они продолжали быть активными уже после того, как получили деньги на реализацию и боролись за хороший результат до конца.
Слово «эксперимент» вообще довольно часто звучит в связи с конкурсом. Расскажите поподробнее, что вы под этим имеете в виду?
Настоящий эксперимент начинается тогда, когда люди приступают непосредственно к работе над проектом. Они могут задумать одно, а на этапе реализации они практически всегда сталкиваются с какими-то незапланированными трудностями, которые им нужно преодолевать. При этом некоторые проекты от этого становятся только лучше и интереснее. Поэтому мы и говорим, что каждый проект – это эксперимент, результаты которого далеко не всегда очевидны.
То есть получается, люди должны быть гибкими в своей работе?
Да, в определенной мере гибкими, но при этом не забывать, что они работают в рамках серьезных ограничений. Проектанты получают целевое пожертвование, которое не могут использовать на другие цели. После того, как победители получают грант, их никто не бросает на произвол судьбы. Чтобы избежать каких-либо недоразумений, у нас работает механизм мониторинга, во время которого наши эксперты могут советом помочь проектантам, если что-то не выходит. А если мы узнаем о каких-то тревожных вещах, то вместе решаем, что делать в сложившейся ситуации. К счастью, такое не на каждом проекте случается. Это отдельные ситуации, и мы к ним готовы.
Удается музеям привлечь дополнительное финансирование для реализации своих проектов, помимо того гранта, который они получают от фонда Потанина?
Да, удается. Дополнительное финансирование не есть наше обязательное требование, но если для реализации проекта удалось привлечь каких-либо местных партнеров, то мы расцениваем этот факт очень положительно. Это значит, что кроме нас, в этом проекте еще кто-то заинтересован.
Один из самых трогательных случаев, произошедших за всю историю конкурса, случился в Калининграде. Мэр города не верил, что небольшой музей сможет стать победителем в нашем конкурсе и, в результате, проспорил свою зарплату, которая была пущена на закуп дополнительного оборудования по проекту. Это был замечательное и пиаровское, и фандрайзинговое решение.
Учитывая, что у нашего конкурса появились конкуренты, я допускаю, что может сложиться ситуация, когда один и тот же проект будет получать финансирование, скажем, из фонда «Династия», и из фонда Потанина, только не надо этого скрывать на этапе составления заявки. Мы будем оценивать такой проект с точки зрения его эффективности, ориентируясь не только на наш, а на общий бюджет. Если люди будут скрывать дополнительное финансирование, мы будем это расценивать как недобросовестность.
Конкурс объявлен, и сейчас музейщики начнут работать над проектам. Наверняка, у них возникнет множество вопросов. К кому им обращаться в этих случаях?
Во-первых, всегда можно обратиться к своему региональному координатору. Он может проконсультировать присланную заявку и на предмет формальных требований, и с точки зрения содержания. При этом он, безусловно, он не является консультантом по проекту, в сфере его компетенции – общие рекомендации и разъяснение условий конкурса.
Во-вторых, если у проектировщиков возникает ощущение, что координатор не отвечает на его вопросы, то у них всегда есть возможность обратиться непосредственно к организаторам конкурса – Ассоциации менеджеров культуры и в Благотворительный фонд В. Потанина. Можно просто отправить нам письмо по электронной почте .
В-третьих, сейчас запущен новый сайт конкурса, где также есть возможность задать вопрос нам напрямую. Более того, на сайте опубликована вся необходимая информация, возможно, заявитель найдет там ответы на свои вопросы. Там же можно познакомиться с дневниками проектов, где победители рассказывают о том, как они работают над проектом, с какими сложностями сталкивают и как они их решают. Мы надеемся, это поможет заявителям при составлении заявки.