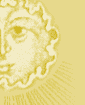Можно ли, работая в небольшом провинциальном музее, сделать открытие "столичного" масштаба? Оказывается, можно. На днях такое открытие сделала сотрудница художественно-мемориального музея К.С.Петрова-Водкина (филиал музея им.А.Н.Радищева) Елена Пондина.
Расшифровывая фотокопии писем К.С.Петрова-Водкина, подаренные дочерью художника Е.К.Дунаевой, и работая над статьёй об отношениях К.С.Петрова-Водкина с петербургским архитектором Р.Ф.Мельцером, она заинтересовалась одной фразой из письма художника архитектору. Письмо не датировано, но, предположительно относится к 1911 году. В нём Кузьма Сергеевич просит Мельцера помочь ему с заказами для заработка. В письме он упоминает о "брантовском стекле" - заказе Мельцера, которое "пошло в дело". Известно, что Мельцер покровительствовал художнику, время от времени давал возможность заработка. Открытый в 1985 году пейзажный триптих К.С. Петрова-Водкина в особняке Г.Г. фон Гильзе фон дер Пальса - свидетельство такого заказа. Иногда Мельцер привлекал начинающего художника к работе над своими собственными проектами, примером такого участия художника является майоликовое панно "Богоматерь с младенцем" на фасаде церкви ортопедического института им.Р.Р.Вредена, возведенного по проекту Мельцера. О каком же "брантовском стекле" идёт речь в письме?
В 1909-1910 по проекту Мельцера был возведён на Петербургской стороне, рядом с домом балерины М.Ф.Кшесинской, особняк для лесопромышленника В.Э.Бранта. Предположили наличие витражей, выполненных по рисункам К.С.Петрова-Водкина. Связались с младшей внучкой художника З.П.Барзилович, живущей в Санкт-Петербурге, попросили её сфотографировать дом по улице Куйбышева, 2-4. Внучка откликнулась на просьбу, и вскоре сотрудники музея К.С.Петрова-Водкина смотрели фотографии особняка, в котором в настоящее время располагается музей политической истории России. З.П. Барзилович подтвердила наличие витража в окне полуцилиндрического выступа главного фасада, а также оконных витражей, освещающих лестничное пространство. Е.Пондина обратилась к специалисту по внешним связям музея политической истории России О.Б.Кох с вопросом об авторстве витражей и просьбой прислать фотографии с них. Оказалось, что авторство витражей не известно, а фотографии, в обмен на расшифрованное письмо с упоминанием "брантовского стекла, были присланы. С обрамлённого венком овального витража окна главного фасада грозно взирает "фальконетовский" Пётр, как писал К.С.Петров-Водкин в автобиографической повести, "выспренно подымающий пласты России к услугам просвещённой Европы". Пространство в витраже за фигурой "медного всадника" развивается снизу вверх в виде неравномерных напластований земли, гор, абрис которых напоминает хвалынские (вызывает в памяти картину К.С.Петрова-Водкина 1925 года "Фантазия"), становясь в венчающей части, изображающей солнце с расходящимися лучами, более насыщенной. Локальные пятна цвета, приобретающие повышенную интенсивность в световых лучах, свобода линейного ритма, плоскостность структуры в сочетании с объёмностью, свойственную росписям по стеклу, усиливают впечатление парения всадника.
Известно, что образ Петра с раннего детства "врезался" в память художника, когда мать привезла его, трёхлетнего, в Петербург к отцу, служившему рядовым Новочеркасского полка. В автобиографической книге "Хлыновск" художник так описал первую встречу с Петром: "…лошадь задрала ноги кверху, вскочила на каменную гору. На ней человек в халате сидит, руками машет - тоже не живой…". Позже, учась в Петербурге в училище Штиглица, постигая азы прикладного искусства, используемые им в своей дальнейшей работе над заказами, он вспомнил свои "младенческие памятки", изучая Петербург "по указанию руки медного Петра" и "по направлению хвоста медной лошади". "Фальконетовский Пётр" был для художника своеобразным компасом, или, как он сам его называл - "флюгером". Не случайно одна из глав автобиографической повести "Пространство Эвклида" так и называется "Город медного всадника". Выбрав Петербург своим постоянным местом проживания, предпочтя его Москве, он - участник объединения "Мир искусства", мог бы, по его собственным словам, "оставшись под чарами" этого фантастического города, рисовать "его каналы, Новую Голландию, ростральные колонны и памятник Фальконета", как многие его друзья из "Мира искусства", но "спас" его "от этой участи Пушкин: "Не будь "Медного всадника" Пушкина, и этот, раскинувшийся на Сенатской площади, силуэт конной статуи возымел бы для меня иное ритмическое значение…". И всё-таки "долго мозолил" воображение художника образ Петра. Свидетельством тому являются рисунки к книге "Пространство Эвклида" с набросками головы Петра (1932) и рисунок "Мировые события" (1928), в котором памятник Фальконе занимает одно из важных мест. Как знать, быть может, и витраж из особняка Бранта из этого же ряда. Во всяком случае, всё выше сказанное косвенно подтверждает авторство К.С.Петрова-Водкина. Возможно, интерес художника к личности Петра совпал с желанием заказчика.
После возвращения с молодой женой из Парижа в конце 1908 года, он очень нуждался в материальной поддержке, искал заказы. Например, в 1910 году он выполняет эскизы росписей для дачи тульского помещика В.И.Сазонова в Крыму (не осуществлены), в том же году выполняет росписи храма Василия Златоверхого в Овруче. В письме матери от 1 мая 1910 года он упоминает о заказе, из-за которого откладывает поездку в Хвалынск: "…задерживаюсь здесь (в Петербурге) в надежде устроить один заказ, который меня бы обеспечил, по крайней мере, на год спокойной работы над картинами". В этот же день пишет в Хвалынск своему другу Льву Радищеву: "Вот помыслы мои сейчас - только устроиться найти возможность, чтобы хоть на один год зарыться в живопись "для себя". И не уеду отсюда раньше, чем это не исполнится, хотя бы для этого пришлось потерять лето в гадости Петербурга". Ещё раньше (3-5 апреля) он сообщает матери о встрече 4 апреля с Мельцером. Возможно, именно в это время он получает заказ на "брантовские" витражи. Витражи, выполненные в технике росписи по матовому стеклу, создают в интерьере своеобразный микромир, изолированный от реальности. Решётка изысканных вертикальных пропорций оконных переплётов напоминает мелкую расстекловку в свинцовых переплётах домика Петра 1 (1703), находящегося на петербургской стороне недалеко от особняка Бранта. Четыре витража, освещающие лестничное пространство, воспроизводят классицистические мотивы гирлянд, перевязанных лентами. Надо отметить, что особняк Бранта Мельцер проектировал под влиянием торжественно-строгой неоклассики, когда "дионисийское" начало его неоромантических построек, уступает место "апполоническому". Нарастание классицистических интонаций во многом было связано с "открытием" красоты старого Петербурга. Поэтому как нельзя кстати в ретроспективной составляющей убранства внутренней среды особняка Бранта оказались эти мотивы гирлянд и выбор "фальконетовского Пётра", исполненного в античной манере и прекрасно сочетающегося с аллегорическим языком наддверных рельефов, лепными фризами на стенах, колоннами со стилизованным ордером, большими вазами в начале и конце лестничных маршей - всё пронизано духом неоклассики.
"О, сколько нам открытий чудных" ещё могут принести записные книжки, письма, черновики автобиографических повестей К.С.Петрова-Водкина.