
В.А. Жуковский.
|

И.А. Крылов.
|

К.Н. Батюшков.
|
IV. Отечественная война в русской лирике.
Н.П. Сидорова.
Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый:
Был огромный человек,
Расточитель славы...
(Д. Давыдов).
|

ервые наши встречи с этим «огромным человеком» наносили довольно глубокие раны общественному самолюбию, той упоенной победами «народной гордости», которая в только что умчавшийся XVIII век — «век военных споров, свидетель славы россиян» — нашла для себя почти каноническое выражение в условно-классических формах торжественной лирики.
Теперь, на заре нового века, старый екатерининский бард Державин чувствует себя бессильным «в путь лететь орлиный, с Пиндаром плесть венцы побед»; а после Тильзитского договора, когда император Александр стал «другом» Наполеона, ему приходится менять редакцию своих стихов — заменять французов фазанами! так, в оде в честь Платова:
... бросая петли округ шей,
Фазанов (вм. французов) удишь, как ершей.
|
Тяжесть континентальной системы настраивает его, прежде столь громозвучную, лиру элегически, и он в сетованиях Давида о бедствии отечества выражает свое собственное «сердечно сокрушение» (стих. «Надежда на Бога», «Сетование»); за это «Сетование» он даже получает выговор: «Россия не бедствует», с раздражением сказал Александр, применяя к России смысл державинского стихотворения.
Однако общее настроение было на стороне старого поэта, и позднее (1823 г.) Пушкин, уже без державинских недомолвок, метко обрисовал этот исторический момент, когда
«Владыке полунощи (Александру)
Владыка запада, грозящий, предстоял.
Таков он был, когда в равнинах Австерлица
Дружины севера гнала его десница,
И русский в первый раз пред гибелью бежал;
Таков он был, когда с победным договором
И с миром и с позором
Пред юношей-царем в Тильзите предстоял»......
|
Свидетельства современников не оставляют сомнений, что Тильзитский мир переживался сознательной частью русского общества именно как «позор», как оскорбительное подчинение «всемирному врагу», к тому же вскоре невыгодно отозвавшееся и на экономическом благосостоянии, особенно городского, населения. На этой почве назревал тот «порыв национальности», которому предстояло серьезное испытание:
... гроза двенадцатого года
Еще спала; еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он...
|
Высочайшие приказы армиям и фельдмаршалу гр. Салтыкову 13 июня 1812 г. оповестили русское общество, что гроза разразилась; Наполеон был уже в России: «Русь обняла кичливого врага».
В быстром, почти бешеном темпе стали разыгрываться на русской равнине один за другим акты единственной в своем роде трагедии... Как же откликнулась русская литература на эти бурные события Отечественной войны? — Вот что по этому вопросу писал обозреватель русской литературы в ж. «Сын Отечества» (1815 г.): «В половине 1812 г. грянул гром, и литература наша сначала остановилась совершенно, а потом обратилась к одной цели — споспешествованию Отечественной войне. В продолжение второй половины 1812 г. и первой 1813 г. не только не вышло в свет, но и не написано ни одной страницы, которая не имела бы предметом тогдашних происшествий»... По отношению к лирике надо признать вполне верным это наблюдение современника (Н.И. Греча). Действительно, в первый момент, как бы не находя, — «после двух веков славы, счастия», — готового тона для небывалых событий, поэзия, если только можно ее так называть, дает сравнительно редкие отзывы:
«В нас силы духа упадали,
Скорбел встревоженный Парнас,
Уж звуки лирные молчали —
Печали раздавался глас!..»
(«Собрание стих., относящихся к незабвенному 1812 г.», 2 ч. М., 1814 г., ч. I, 28 стр.)
|
Но вскоре, когда стала все яснее и яснее обозначаться возможность счастливого исхода, и особенно, когда враг «бежал», неудержимым потоком хлынули ему вдогонку оды, гимны, песни, гласы, дифирамбы, поэмы... В них оживала державинская помпа, вновь зазвучал в тонах и красках старой пиитики знакомый боевой клич, засверкали шлемы и кольчуги, загремели мечи и копья. Однако за искусственно-героической позой и звонким лирным бряцанием, за крикливой и вычурной патриотической риторикой, за мглистым фимиамом славословий, за всей этой условной поэтической бравадой можно усмотреть некоторые живые черты подлинных настроений русского общества того времени. Даже крайне приподнятый тон тогдашнего стихотворства может объясняться не только готовым литературным шаблоном; во всяком случае, он поддерживался и необыкновенностью переживавшихся событий: «Нельзя теперь о России ни писать ни даже говорить слогом обыкновенным, — говорит один современник («Письма из Москвы в Нижний-Новгород», ж. «С. Отечества», 1813 г., №XXXV, стр. 92), — и как тому быть иначе? В событиях нашего отечества все чудесно: как-будто читаешь Ариоста». Невыношенная в свободнотворческом процессе, сделанная на скорую руку для данного момента, вся в злобе дня, поэзия 12-го года не зрительница, а участница событий, торопливо поспевающая за их стремительно развертывающимся ходом.

Сожжение знамен.
(Коссак).
|
Ряд стихотворений идет за первыми же царскими приказами, повторяя их мысли и даже выражения:
«Мы чисты совестью, делами,
Злодей лишь крыть ехидство мог;
Будь презрен он! Монарх, ты с нами!
На зачинающего Бог!»
(«По прочтении приказа действ. армиям.» «Собр. стих. 1812 г.», ч. II, стр. 6.)
|
Как и шишковские манифесты, как журналистика того времени, лирика ставит себе задачу «вящшего ободрения мужественных, восстановления малодушных, изобличения бесстыдного хищника в лжах и злодействах его» («Сын Отеч.», 1813 г., X); она, по словам Жуковского:
«Вливает бодрость, славы жар,
И месть, и жажду боя».
(«Певец во стане русск. воинов»).
|

А.С. Пушкин.
|
Она не зарисовывает нам отрицательных явлений тогдашней военной и гражданской жизни; лишь мельком касается охватившего многих отчаяния, когда
«Повсюду было здесь смятенье...
Во всех российских городах
Был зрим один всеобщий страх»
|
когда казалось, что и для России «час рабства, гибели приспел». Она не отметила нам ни малодушных и беззаботных, о которых рассказывают мемуары (Вигель, Добрынин и др.), ни тех раздоров и корыстных интриг, которые не смолкли даже в эту страшную годину. Лишь сатирик и скептик И.А. Крылов по поводу злостной внутренней неурядицы дал в своей басне «Раздел» следующее предостережение:
«В делах, которые гораздо поважней,
Нередко оттого погибель всем бывает,
Что чем бы общую беду встречать дружней,
Всяк споры затевает
О выгоде своей!»
|
Но сатира и скептицизм были не ко времени, и «хоть были некоторые, которые предвещали, что затеянная борьба не по рукам нам, но их было весьма мало, и зловещее их предсказание почитали трусостью» (кн. Волконский «Записки», 148). В ответ на призыв манифеста: «Да встретит он (враг) в каждом дворянине Пожарского» и т.д., — военная песнь с уверенностью восклицала:
«Не всяк ли тот из нас Пожарский,
Кто духом, сердцем, чувством Росс?»
|
Наша «брань — праведная», французский император «открыл первый войну», «с лукавством в сердце и лестью в устах несет он вечные (для России) цепи и оковы», так говорят правительственные манифесты, которым вторят и стихотворцы:
«Ужели нам, в войне сей правым,
Под игом тягостным страдать?..
Что мы такое учинили,
Почто идут войной на нас?
Союз давно ли заключили?
И вдруг пресекся мирный глас...
Мы ль вторгнулись в его пределы,
Смутили домы поселян?
Мы ль отняли его уделы[2]?
Обманом ворвались во стан?»
|
спрашивает автор (И. Ламанский) и обращается с молитвой к Богу «не попустить врагам лукавым над истиной торжествовать». Однако враг торжествовал, и шел прямо в грудь России, к самому ее сердцу...
Поэзия становится сплошным боевым кличем, горячим призывом к делу, к жертвам кровью и благосостоянием, к единодушному отпору врагам: «Вы тем гордитесь, что славяне, но будьте славны делом вы!.. Сокровищницы отворите, всех состояний богачи!..» «К оружию, к защите, россы!» — «Отчаянью не предавайтесь, мужайтесь, росские сыны!»
«Иль мужество в груди остыло,
И мстить железо позабыло?
Скорей сомкнитесь в ратный строй!
Зовет отечество: летите!
И сколь ужасно покажите
России нарушать покой»
(Милонов, «В. Евр.», 1812 г., авг.).
|
Враг не страшен, говорит отчасти в тоне ростопчинских афиш Астафьев в песне русским воинам:
«Посмотрите, подступает
К вам соломенный народ,
Бонапарте выпускает
Разных наций хилый сброд.
Не в одной они все вере,
С принужденьем все идут;
При чувствительной потере
На него же нападут».
|
Федор Глинка, сидя у полевых огней под Смоленском, пишет солдатскую песню, которая распевается в полках:
«Вспомним, братцы, россов славу,
И пойдем врагов разить.
Защитим свою державу;
Лучше смерть — чем в рабстве жить!..
Мы вперед, вперед, ребята!
С Богом, верой и штыком...»
(18 июля 1812 г., село Сутоки).
|
От гнетущих впечатлений настоящего мысль охотно уходит в прошлое, чтобы там, в славных воспоминаниях, черпать живые силы бодрости и надежды, поднимать национальное самочувствие; лихолетье смутного времени, Полтава — вот наиболее частые и близкие исторические аналогии: Наполеону грозит участь Карла XII, которого «гордость завела к Полтаве, и гордый с колесницы пал»; поэтому
«Умрем, как прежде умирали,
С Донским, Пожарским злых карали,
С Екатериной иль Петром...
Греми отмщенья страшный гром»
(«В. Евр.», 1812 г., №13).
|
Эта жажда мести является главным мотивом всей поэзии 12-го года, как она, несомненно, захватывала и все наиболее активные элементы русского общества: «Мщение и мщение было единым чувством, пылающим у всех и каждого» (кн. Волконский, «Зап.», 147); им горят даже такие обычно незлобивые люди, как Ф. Глинка и Максим Невзоров:
«Воздвигнем знамя чистой веры,
Надежды крепкой и любви!
Бог превзойдет все с нами меры,
Упьется в вражией крови»
(М. Невзоров).
|
Так своеобразно чувство мести завязывается в один узел с мотивами националистическими и религиозными; оно питалось новыми и новыми ударами национальному самолюбию, успехами французской армии, бедствиями войны, которая всюду несла свой «меч и пламень».

|
Отгремело Бородино — «Российский Марафон», где «дрогнул в первый раз злодей Наполеон», затем настали новые «дни ужаса и плача»: Москва в руках французов, Москва запылала... Пожар и плен Москвы — одна из самых популярных тем лирики 12-го года. Впечатление от события, несомненно, было огромное; однако стихотворные отклики на него не дают в большинстве случаев живых и захватывающих картин; готовая риторическая схема более, чем когда-либо мешает почувствовать биение потрясенного скорбью сердца; нет тех иногда мелких, но пережитых и свежих деталей, которые делали бы поэтическую живопись вполне убедительной и заражающей. Яркое художественное слово нашлось только у К.Н. Батюшкова, который сумел в немногих, как похоронный звон отдающихся в душе, стихах своего послания к Д.В. Дашкову выразить всю жуть и боль совершившегося:
«Мой друг! Я видел море зла
И неба мстительного кары,
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары;
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных;
Я видел бедных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Оне в отчаяньи рыдали,
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ея священный
Слезами скорби омочил.
И там — где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там — где с миром почивали
Останки иноков святых,
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их;
И там — где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады —
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!»
|
Могли, конечно, говорить, что «потеря Москвы не есть еще потеря отечества»: могли даже рукоплескать в Петербурге словам Пожарского (в трагедии Крюковского «Пожарский»):
«Россия не в Москве, среди сынов она,
Которых верна грудь любовью к ней полна!»
(Д. I, явл. 2).
|
Но этими фразами нельзя было заговорить той жгучей скорби, какая вылилась в стихах Батюшкова; и в не очень художественном, но искреннем «Плаче над Москвой» кн. Ив. Долгорукий («Бытие моего сердца», ч. I, стр. 162) дает ответ успокоительным голосам:
«У матушки Москвы есть множество детей,
Которые твердят по новому пристрастью,
Что прах ея не есть беда России всей...
Утешит ли кого сия молва народна?
Отечества я сын, и здесь сказать дерзну:
Россия! ты колосс, — когда Москва свободна;
Россия — ты раба, когда Москва в плену!»
|
За что же этот плен? — возникал вопрос у наиболее чутких и совестливых. За что «гнев Божий над тобой, злосчастная Москва?»
В этом отношении чрезвычайно интересно стихотворение свящ. Матфея Аврамова «Москва, оплакивающая бедствия свои»... (Отд. изд. 1813 г.; в Собрании стих. 12-го года, ч. II, 67—100). Обрисовав с большой силой, с прочувствованными подробностями бедствия Москвы, автор представляет ее «в образе вдовицы», которая в своей покаянной речи резко обличает социальную неправду, истинную причину отяготевшей над нею казни Божией: она задремала «на лоне ложных благ», «корысть» стала ее «душой»; повсюду «лесть медоточная и хитрое притворство, вина общественных неисцелимых ран»; повсюду «наглость, варварство, ложь, клеветы, обман»:
Обман между родных, — обман между друзьями,
Между супругами, между сынов с отцами,
Обман на торжищах, в судах и вкруг царей,
Обман в святилищах, — обман у алтарей...
|
Невинные страдали, богатство и покой покупались «правосудия и истины ценой»; «из бедных с потом их, с слезами пили кровь». С одной стороны, нищета, уходившая в пьянство, «впивала с жадностью в себя пиянства страсть», с другой —
«Любимцы счастия среди забав и нег,
На лоне роскоши, в объятиях утех,
Тогда для собственных лишь удовольствий жили...»
|
Любовь была забыта, и вместе с ней «пало основанье, которое одно дел добрых держит зданье». Взамен воцарилось «самолюбие жестокое, слепое»... Вот почему Бог прогневался на Россию и «мечом врага стал действовать над вашими сердцами». — Стихотворение[3], писанное в 1812 г. в продолжение разорения Москвы и в первые дни ее избавления, оканчивается призывом к исправлению и надеждой на Бога:
«Сыны Москвы! Средь бед смущаться нам не должно,
Бог прах одушевит — от Бога все возможно».
|
Этот глубокий и строгий взгляд внутрь самого себя перед лицом народного бедствия, этот призыв к покаянию был поистине гласом вопиющего в пустыне. Вокруг раздавались совсем другие голоса. У громадного большинства «унижение» Москвы, ее «слезы горькие», когда в ней «начался грабеж неслыханный, загорелись кровы мирные, запылали храмы Божии», отозвались не самоуглублением, не покаянно обличительными настроениями, а все разгорающейся жаждой мщения: «при имени Москвы, при одном названии нашей доброй, гостеприимной, белокаменной Москвы, сердце мое трепещет (писал Батюшков Гнедичу), и тысячи воспоминаний, одно другого горестнее, волнуются в моей голове. Мщения, мщения!» Вот, напр., один из характерных образчиков тогдашней «музы», — напечатанная в ж. «Сын Отечества» 1812 г. (писанная 15 сентября) «Солдатская песня» Ив. Кованько, за которую цензор Тимковский поплатился выговором по представлению кн. Адама Чарторижского, обидевшегося намеками на поляков:
«Хоть Москва в руках французов,
Это, право, не беда!—
Наш фельдмаршал, князь Кутузов,
Их на-смерть впустил туда.
Вспомним, братцы, что поляки
Встарь бывали также в ней:
Но не жирны кулебяки —
Ели кошек и мышей.
Напоследок мертвечину,
Земляков пришлось им жрать,
А потом пред русским спину
В крюк по-польски изгибать.
Свету целому известно,
Как платили мы долги:
И теперь получат честно
За Москву платеж враги.
Побывать в столице — слава!
Но умеем мы отмщать:
Знает крепко то Варшава,
И Париж то будет знать».
|
И хотя некоторые смеялись над этими стихами, говоря: Ah bah! on va deja a Paris et l'ennemi vient de prendre Moscou! Comme c'est bete! — автор оказался прав: быстрой чередой последовали Тарутино, выступление французов из Москвы, бегство великой армии, изгнание неприятеля из пределов России, заграничные походы, наконец, Париж!..

Иллюстрация к басне Крылова «Ворона и Курица».
Рис. Иванов, грав. Галактионов.
(М. Издание 1815 г.).
|
В это-то время, когда раздался «Росский всепалящий гром», и хлынул тот неудержимый поток российского песнотворчества, о котором мы говорили выше, повылезли из щелей мошки да букашки, — все эти Овдулины, Поповы, Юшковы, Урываевы, Кулаковы и проч., чтобы дубовыми стихами разить бегущего врага; «на радостях избавления от двунадесяти язык спешили тогда упражняться все призванные и непризванные «пииты», говорит современник Никитенко («Записки», ч. I, 41). За исключением всем известных басен Крылова («Обоз», «Ворона и Курица», «Волк на псарне», «Щука и Кот») и «Певца во стане русских воинов»[4], где Жуковский воспел воинские доблести живых полководцев (забыв, однако, Барклая-де-Толли) и бросил несколько цветов на могилы падших — Кульнева, Кутайсова, Багратиона, — вся остальная «поэзия» не имеет почти никакой эстетической ценности. Это эфемериды, созданные тогда, когда, по выражению Дениса Давыдова, «ненависть к посягателю на честь и существование нашей родины внушали нам одни ругательства на него» («Письма Пушкина», изд. под ред. Саитова, ч. III, 419). Но зато в этой своеобразной «поэзии» довольно отчетливо вскрывается та популярная идеология, которая сложилась во время Отечественной войны и стала позднее руководящей. Основной ее пафос — все тот же пафос мщения:
«Сей кубок мщенью! Други, в строй!
И к небу грозны длани!» восклицает Жуковский.
|
Надо прибавить, что теперь это песнь торжествующей мести... Враг бежит:
«Бежит, — и пламенным мечом
Его в тыл ангел погоняет»... (Державин).
«Бежит... Россия, веселися
О мужестве сынов твоих...
Бежит неистовый злодей,
И с скрежетом зубов трепещет,
Зря меч в деснице роковой
Блистающ над его главой»
(Кованько, «Собр. стих. 1812 г.», ч. I, 70).
|
Поэзия превращается в свист, рифмованную травлю загнанного зверя. Нет возможности перечислить все прозвища, какими наделяется Наполеон, — «убийства алчущий злодей», «сей лютый крокодил, короны похититель, чертогов, алтарей, престолов сокрушитель», «несытый боле, чем Аттилл», «сын адской тьмы», «князь бездны», «вспоенный кровью вепрь» или даже так:
«Наполеон — проказник,
Друг ада, сатаны согласник,
И трус великий и подлец
(«Собр. стих.», ч. I, 174).
|
Он — апокалипсический «таинственных числ зверь», и имя его, как вычислил дерптский проф. Гецель, содержит в себе число звериное 666, а 1813-ый год есть тоже 666-ой от начала Москвы, — год, в который Антихрист должен родиться и погибнуть:
«В Наполеоне ад грозился,
И ад сей Богом истребился».
|
Набрав «двадцать орд с буйной сволочью», он в царство русское вошел разбойником, чтобы «в цепи тяжкие заковать славян, возмущением помрачить их честь... мнимой вольностью обольстить умы»:
«Я грез глашатая рабам
Свободу дам,
И прах от ног моих полижут в униженьи»...
|
Так «мнил» Наполеон, но ошибся: «мы буйной вольности не завидуем», а «рабы» — русские поселяне — поют такую песню русским воинам:
«Мы в довольстве, мы в приволье,
Есть хлеб—соль, спокойно спим;
В русском царстве нам раздолье,
И чужбин мы не хотим.
Золотеют наши нивы;
Тучны травы во лугах:
Мы в домах своих счастливы,
Рай — житье нам в деревнях»
(«Собр. стих. 1812 г.», ч. II, 235 стр.).
|

«Господа, какой бритвой вы сделаете мне бороду?» - «Английской бритвой!»
(Теребенев).
|
Такова консервативная дворянская идеология, которую мы найдем в это время не только в «поэзии»: «мы страшились последствий от сей войны, совершенно противных тем, какие мы теперь видим (писал 27 окт. 1812 г. А.И. Тургенев кн. Вяземскому): отношения помещиков и крестьян не только не разорваны, но еще более утвердились. Покушения с сей стороны наших врагов совершенно не удались им, и мы должны неудачу их почитать блистательнейшей победой, не войсками нашими, но самим народом одержанною» («Остаф. архив», т. I, стр. 5—8).
Перемен вообще не нужно:
«Европа с Францией алкала
России пременить судьбу»... но
|
мы «останемся в надежде, что будем жить, как жили прежде» (кн. Ник. Кугушев, ч. I, 244). Ту же консервативную тенденцию проводит написанное кадансированной прозой в фальшиво-народном стиле, бывшем тогда модным, «Послание Серединской станицы козака Ермолая Гаврильевича к атаману своему Матвею Ивановичу» (Платову. См. «Сын Отечества», 1813 г., ч. V, стр. 185). «Не под стать нам ваши норовы», обращается автор к французам, и приводит примеры крутой расправы стариков-казаков с новаторами: привез молодой казак «дьявольское стекло», «что зовут у вас кларнетами... Засадили парня в темную, пусть-ка смотрит он в стекло свое! Не вводи ты, молкососишко, нам хранцузских злых обычаев. А другого было дернуло нарядиться в ваше платьице кургузое: старики поосерчалися, содрали с него платье похабное, да досталось и плечам его!.. Ай ,спасибо, Матвей Иванович, что ты держишься старинушки!... Ты нижи копьем за границею, ты щелчки давай молкососишкам, что задумают стариков седых на хранцузский лад перестраивать». Зачем что-либо перестраивать, когда Россия вышла победительницей из борьбы с целой Европой, когда этой победой она показала жизненную крепость своих общественных и политических устоев. Этот вывод и был сделан как журналистикой, так и поэзией: «После сего, — писалось в «Сыне Отеч.» за 1813 г. (ч. X), — кажется, можно согласиться, что все русское и все русские, будучи в покровительстве Промысла Божия, не только непобедимы на полях брани, но даже несравненны и в кругу жизни миролюбивой». В сущности то же и еще более решительно восклицала поэзия:
Наполеон «влек всю Европу за собою.
Шагнул и нас попрать хотел.
С ним злоба, мщение, коварство,
С ним вероломство, с ним лукавство,
С ним все народы; с нами Бог»
(Из «Русск. Вестн »).
|

Отступление Наполеона из России.
(Нортен).
|
«Велик, велик твой Бог, Россия! Велик и славен русский Бог», на все лады вариируют пииты. Происходит, таким образом, не только процесс национально-консервативного самоутверждения, но вместе с тем национализация и самого Бога. Русский народ — богоизбранный:
«Народ, тобой самим избранный
За то, что правдой, верой тверд».
|
Русский Бог — Бог мститель, ветхозаветный Бог с жестоко карающей дланью:
«Подвигнись, исполин!
Спаси стенящий мир от бедства,
И да бразды твоих полей
Под плугом зазвучат от вражеских костей!
Пусть дерзкий в замыслах во времени грядущи
Заглянет в летопись и сердцем содрогнет,
Послышит хладный пот, с чела его бегущий,
И Бога мстителя почтет!»
(«Ф. Иванов», ч. I, 119).
|
Грозная туча свалила; неприятель за пределами России:
«Страшная гроза промчалась,
Там, вдали еще осталась,
Там лишь слышен бой!»
(«Вестн. Евр.», 1813, март).
|
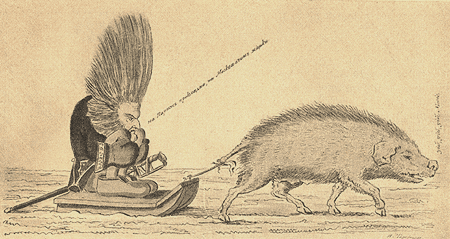
«Французский вояжер в 1812 г.».
(Теребенев).
|
В поэзии — меньше грозных перунов, с мотивами военными сплетаются романтические; прославляется мир — «краса земли, блаженство жизни сей»; уверенность в миновавшей беде открывает место для насмешки, для шутливых стихотворений, в роде «Побег Наполеона Карловича из земли Русской», или следующего «Завещания Н. Бонапарте» А. Измайлова («Сын Отеч.», 1814 г.):
«Предчувствуя мою кончину,
Законным королям я уступаю трон,
Чтобы из милости производили сыну
Хотя сиротский пансион.
От братьев не видал я никакой заслуги,
Пускай живут их чем хотят,
Пускай из королей пойдут они хоть в слуги;
Сестер же в госпиталь под старость поместят.
Остатки гвардии и войска распускаю,
И благодарность им мою
За службы, раны их и голод объявляю,
Но жалованья не даю:
Где взять его, когда я сделался банкрутом.
Все знают, что война была без барыша
(Обманут жестоко я Коленкуром плутом).
Вся собственность моя теперь: одна душа,
Один мой только гений!
Отказываю их я князю Сатане,
Который сочинял со мною бюллетени
И помогал во многом мне.
Пред смертию своей прошу у всех прощенья,
Не требую себе богатых похорон,
Я даже обойтись могу без погребенья;
Прощайте! Помните, что был Наполеон».
|
Теперь поэзия заменяет призывные боевые клики панегириком в честь «героев севера», главным образом, Кутузова, Витгенштейна, Платова; она почти не обрисовывает их индивидуальности, а применяет к этим «сынам Беллоны» общий тип воинского героизма, как он сложился в старой поэзии XVIII века, — это тот же стиль, наиболее талантливое применение которого мы имеем в известных медальонах гр. Ф. Толстого на Отечественную войну; прославляется «Росс», тоже уже обобщенный и поставленный в классическую позу; «дворянский род», который «взгорел простерт к оружью длани» и за которым вслед «оратай», мещанин, купец, «спешат на поприще побед»... Но среди всех этих славословий одно имя обойдено самым упорным молчанием, это — Барклай-де-Толли; и даже впоследствии (1835 г.), когда Пушкин в стих. «Полководец» показал грядущим поколениям его «высокий лик», поэту пришлось оправдываться от обвинения в намерении оскорбить чувство народной гордости.
Во время заграничных походов центром поэтического внимания и энтузиазма становится Александр, его величают спасителем Европы, победителем и миротворцем — «се Август щастием, победами Траян, а сердцем Тит!» С его именем связывается великая миссия России «Мир миру славными победами даровать», чтобы «обнялись, как братия, цари». В поэзии проскальзывают те настроения, из которых возник в 1815 г. «Священный союз»; Державин в своем гимне лироэпическом уже славит на заржавевшей лире дряхлой рукой это «царство Христово», когда цари «придут на сонмы, чтоб миром умирить их громы», а Карамзин в оде «Освобождение Европы и слава Александра I» (1814 г.) намечает и принципы этого царства:
«Цари! всемирную Державу
Оставьте Богу одному!
Залог, вам небом порученный,
Вы должны возвратить Ему»[5].
Такова задача царей, а вот обязанность народов:
«Народы! Власти покоряйтесь;
Свободой ложной не прельщайтесь:
Она призрак, страстей обман.
Вы зрели Галлов заблужденье...
В правленьях новое опасно,
А безначалие ужасно!»
|
К голосам Державина, Карамзина, Жуковского («Послание императору Александру I») вскоре присоединился звонкий и свежий голос Пушкина-лицеиста («Воспоминания в Царском Селе», «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.»), и надо признать, что патриотический порыв, охвативший русское общество, едва ли не наиболее достойное выражение нашел себе в одах молодого поэта; примыкая в общем к господствовавшим тогда настроениям, в стихотворении «Наполеон на Эльбе» отдавши сполна дань стремлению риторическими стихами «казнить» Наполеона[6], он вслед за Жуковским выдвигает освободительный характер борьбы, называя ее «свободы ярым боем» («На возвращение»), а позднее, в связи с известием о смерти Наполеона в 1821 г., именно Пушкин нашел самое поэтическое, и следовательно, самое гуманное слово, какое только было сказано в русской литературе о Наполеоне. Взамен проклятий, он зовет к примирению. «Он, — говорит Стоюнин, — хочет возвысить народный патриотизм не ненавистью и злобой, которым в свое время была причина, а прекрасным чувством освободителя народов»:
«Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутитъ укором
Его развенчанную тень!
Хвала! Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал»
(«Наполеон»).
|
Мало того, когда снова все пало и «под ярем склонились все главы», когда «тихая неволя» «Священного союза», ограждаемая владыкой севера, воцарилась среди народов, Пушкин, как грозное напоминание о свободе[7], вызывает из могилы тень Наполеона, и снова, как при Аустерлице, —
«Владыке полунощи
Владыка запада, грозящий, предстоял»...
(Недвижный страж дремал. 1823 г.).
|
И пусть здесь Пушкин переоценивал Наполеона, пусть впоследствии изменял этой точке зрения, во всяком случае «только он, — говоря словами Н.О. Лернера, — пытался так благородно осмыслить это поразительное историческое явление».
Н. Сидоров.
[1] Здесь, как и в других подобных случаях, при указании ч. I или III разумеется «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 г.», 2. М., 1814 г.
[2] Вероятно, намек на захват Наполеоном владений герцога Ольденбургского.
[3] Ср. в то же время написанную и поразительно совпадающую по мыслям заметку неизвестного автора о праведном попущении Божием на всех россиян и на Москву, «осиротевшую вдову русского царства» — Щукин, «Сб. 12-го года», ч. V (из бумаг Алябьевского архива).
[4] Произведение было очень популярно: «Часто в обществе военном читаем и разбираем «Певца во стане русских», новейшее произведение г. Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пиесу наизусть... Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собою душу воинов!» («Походные записки русского офицера Ив. Лажечникова», изд. 2, стр. 69).
[5] Ср. в акте «Священного союза» та же мысль: «Три союзные государя почитают себя аки поставленными от Провидения. Самодержец народа христианского... не иной подлинно есть, как Тот, Кому собственно принадлежит держава».
[6] Не даром «Сын Отечества» еще в 1814 г. иронически рекомендовал такой жестокий способ казни Наполеона:
«На Эльбе виршами досмерти зачитайте, —
Ручаюсь, с двух стихов у вас зачахнет он»...
|
[7] Ср. настроения либеральной молодежи 20-х гг., будущих декабристов, которым сочувствовал Пушкин, — напр., Каховский: «Судьба народов стала столь тягостной, что они пожалели время прошлое и благословляют память завоевателя Наполеона!» («Былое», 1906, I, 148) или Рылеев: «Твое (Н-а) могущество захватило все власти и пробудило народы... Ты пал, но самовластие с тобой не пало. Оно стало еще тягостнее, потому что досталось в удел многим» (Котляревский. «Рылеев», 38 стр.).