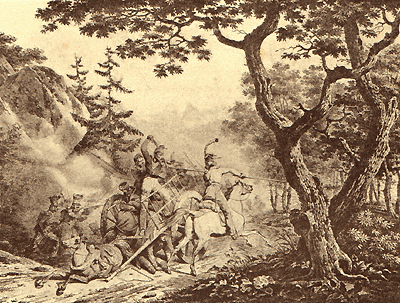
Раненые французы, атакованные казаками (Вернэ).
|
II. Партизаны и партизанская война в 1812-м году.
С. А. Князькова.

ысль об организации партизанских отрядов, которые, забравшись в тыл неприятеля и на пути его сообщения, неустанно бы беспокоили врага и, внезапно появляясь и исчезая, хватали бы пленных, истребляли запасы и обозы, возникла еще до Бородина
[1]. Уже тогда отдельные кавалерийские части, случайно попадая в положение партизанов, наглядно доказали важность такого рода операций на растянувшемся столь неоглядно пути следования французской армии. Перед самым Бородинским боем подполковник Ахтырского гусарского полка Денис Давыдов послал записку генералу Багратиону, прося разрешения организовать партизанский отряд, который под его начальством мог бы действовать в тылу неприятеля на свой страх и риск. Мысль эта понравилась Багратиону, и он доложил о проекте Давыдова главнокомандующему. Кутузов, готовясь к генеральному сражению, сначала было просто отмахнулся от этого предложения, но когда Багратион продолжал настаивать, Кутузов согласился послать «на верную гибель», как он выразился, пятьдесят гусар, полтораста казаков, если Давыдов возьмется идти с таким малым отрядом. Багратион передал условия главнокомандующего Давыдову, и Давыдов согласился: «Верьте, князь, — сказал он Багратиону, — партия будет цела, ручаюсь в том честью; для этого нужны только при отважности в залетах, решительность в крутых случаях и неусыпность на привалах и ночлегах, за это я берусь... Но только людей мало; дайте мне тысячу казаков, и вы увидите, что будет»... — «Я бы тебе дал три тысячи, — ответил Багратион, — не люблю такие дела ощупью делать, но об этом нечего и говорить: фельдмаршал сам назначил силу партии... Надо повиноваться»... Давыдов взял то, что ему давали: «Иду и с этим числом, — сказал он, — авось, открою путь большим отрядам». Бородинский бой помешал немедленному выступлению нашего первого партизанского отряда, но уже во время отступления наших главных сил к Москве Давыдов с пятьюдесятью гусарами и восемьюдесятью казаками окольным путем вышел на Смоленскую дорогу. Мало кто ожидал успеха от этого отважного предприятия: одни считали, что Давыдов идет на верную гибель и заживо хоронили его, другие посмеивались и просили его кланяться нашим пленным, в уверенности, что французы без особого труда захватят наш отрядец, как только Давыдов отойдет от главных наших сил. Опасность грозила первому партизану не только от неприятеля, но и от своих. «Путь наш становился опаснее по мере удаления нашего от армии, — рассказывает Давыдов. — Даже места, в которых еще не было неприятеля, представляли для нас не мало препятствий. Общее и добровольное ополчение поселян преграждало нам путь. В каждом селении ворота были заперты; при них стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами, а некоторые из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли к ним на помощь, на защиту православных церквей. Часто ответом нам был выстрел, или пущенный с размаху топор, от ударов которого судьба спасала нас. Мы могли бы обходить селения, но я хотел распространить слух, что наши войска возвращаются и, утвердив поселян в намерении защищаться, склонить их к немедленному извещению нас о приближении к ним неприятеля; потому с каждым селением долго продолжались переговоры до вступления в улицы. Там сцена внезапно изменялась: едва сомнение уступало место уверенности, что мы — русские, как хлеб, пиво, пироги были подносимы солдатам. Сколько раз я спрашивал жителей по заключении между нами мира: «отчего вы полагали нас французами?» и каждый раз отвечали они мне: «Да, вишь, родимый (показывая на гусарский мой ментик), это, бают, на их одежу схоже». — «Да разве я не русским языком говорю?» — «Да ведь у них, батюшка, всякого сброда люди». Так я на опыте узнал, что в народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней, к ее обычаям и ее одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, и вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил языком вполне народным».

Д. В. Давыдов. (Порт. Кипренского).
Примечание: Этот портрет вызывал многочисленные споры по вопросу о том, кто на нем изображен. Подчас ставилась под сомнение достоверность в написании художником мундира. Однако именно точность в передаче деталей сложного гусарского обмундирования позволяет с уверенностью утверждать, что на портрете изображен не Денис Васильевич Давыдов. Богатая расшивка доломана шнурами и бахромой говорит, что перед нами штаб-офицер. Белые чакчиры и кивер с султаном из белых с примесью черных и оранжевых перьев были заменены гвардейским гусарам на синие чакчиры и кивер с белым волосяным султаном в апреле 1809 г. Отметим еще одну гвардейскую деталь — лядуночная перевязь с пряжкой, на которой изображен вензель императора. На ментике можно насчитать одиннадцать рядов шнуров, что нарушает существовавшее с 1797 г. правила, по которым таких шнуров должно быть пятнадцать рядов. Но такое отклонение является характерной деталью для быта гусар того времени, так как при подгонке на фигуру не всегда было возможно выдержать правило. Поэтому и на портретах встречаются от одиннадцати до восемнадцати рядов шнуров. Изображенную на портрете форму в 1809 г. мог носить именно полковник лейб-гвардии Гусарского полка Евграф Васильевич Давыдов. (В. М. Глинка «Русский военный костюм XVIII-начала XX века»).
|
Из-под Бородина Давыдов прошел через село Сивково, Борис-городок, в село Егорьевское, а оттуда пробрался на Медынь, Шанский завод, на Азарово, в село Скугарево. Это село, расположенное на высоте, господствующей над всеми окрестностями, так что в ясный день оттуда можно было видеть верст на семь или на восемь всю округу, Давыдов избрал своей штаб-квартирой. Удобно для его действий это село было еще потому, что высота, на которой оно расположено, прилегала к лесу, тянувшемуся до самой Медыни. В этом лесу небольшая партия Давыдова легко могла укрываться и за чащей его следить движения неприятеля.

Остатки наполеоновской армии (Э. Шаперон).
|
Французская армия, ее обозы, парки, отряды разведчиков, беглые и мародеры занимали полосу по обеим сторонам Смоленской дороги верст в тридцать, так что Давыдов очутился буквально среди неприятеля, который скоро узнал о появлении русского отряда в своем тылу. На поиски Давыдова были отряжены особые отряды с повелением захватить смелого партизана живым или мертвым. Это обстоятельство очень усложнило положение Давыдова и диктовало ему величайшую осторожность. «Обезоруженные и трепетавшие французов жители, — пишет он в своих воспоминаниях, — могли легко быть весьма нескромны, а потому мы постоянно находились в большой опасности. Дабы легче избежать ее, мы днем, скрываясь и зорко следя за неприятелем, проводили время на высотах близ Скугарева; перед вечером же мы, в малом расстоянии от села, раскладывали огни, затем, следуя гораздо далее в сторону, противоположную от места, назначенного для ночлега, раскладывали другие огни, и, наконец, войдя в лес, проводили ночь без огней. Если случалось в сем последнем месте встретить прохожего, то брали его и содержали под надзором, до выступления нашего в поход. Когда же он успевал скрыться, мы снова переменяли место. Смотря по расстоянию до предмета, на который намеревались учинить нападение, мы за два или за три часа до рассвета подымались на поиск и, сорвав в транспорте неприятеля, что было по силе, обращались на другой, где наносили еще удар и возвращались окружными дорогами к спасательному нашему лесу, через который мало-по-малу снова пробирались к Скугареву. Так мы сражались и кочевали от 29 августа до 8 сентября. Никогда не забуду этого ужасного времени: и прежде и после я бывал в жестоких битвах, часто проводил ночи стоя, часто засыпал на седле, прислонясь к шее лошади и с поводьями в руках, но не десять дней и десять ночей сряду, ибо здесь дело шло о жизни, а не о чести!» 2 сентября Давыдов разбил две больших шайки мародеров и захватил 160 человек в плен. В окрестных деревнях он подымал народ, раздавал отнятые у французов ружья, учил крестьян, как надо заманивать и истреблять небольшие партии неприятеля. Каждому старосте было указано держать у себя на дворе трех или четырех парней, которые, в случае, если к селу будет подходить большая партия французов, садились бы на лошадей и скакали бы на розыски самого Давыдова. 3 сентября Давыдов подобрался к Цареву-Займищу на большой Смоленской дороге с целью прямого нападения на французские обозы и транспорты. «Был вечер ясный и холодный (2 сентября), — рассказывает он; — сильный дождь, шедший накануне, прибил пыль, и мы следовали быстро. В шести верстах от села попался нам неприятельский разъезд, который, не видя нас, беззаботно продолжал путь свой... Мне нужен был язык, и потому отрядил урядника Крючкова с десятью доброконными казаками наперерез вдоль лощины, а других десять направил прямо на разъезд. Видя себя окруженным, неприятель остановился и сдался в плен без боя. Мы узнали, что в Цареве-Займище днюет транспорт со снарядами и с прикрытием в 250 человек конницы. Дабы пасть, как снег на голову, мы свернули с дороги и пошли полями, скрываясь опушками лесов; но за три версты от села, при выходе на чистое место, мы встретились с сорока неприятельскими фуражирами, которые, увидя нас, быстро поскакали к своему отряду... Оставя при пленных тридцать гусар, которые в случае нужды могли служить мне резервом, я с остальными двадцатью гусарами и семидесятью казаками помчался в погоню за французами и почти вместе с ними въехал в Царево-Займище, где застал всех врасплох. У страха глаза велики, а страх неразлучен с беспорядком. При нашем появлении все бросились врассыпную; иных захватили мы в плен не только невооруженными, но даже неодетыми; других вытащили из сараев; одна только толпа в 30 человек вздумала было защищаться, но она была рассеяна и положена на месте — это доставило нам 119 рядовых, двух офицеров, 10 провиантских фур и одну с папиросами. Остальное прикрытие спаслось бегством». Все это было доставлено в Скугарево и оттуда переправлено в Юхнов. 10 сентября Давыдов присоединил к своему отряду два казачьих полка, находившихся, или, по его выражению, «бродивших» по Калужской губернии, и несколько сот отбитых им у французов наших пленных. С таким большим отрядом, которым Давыдов распоряжался очень умело, он стал очень серьезно беспокоить тыл неприятельской армии, отбивая обозы, истребляя небольшие партии, посягая нападениями даже на сильные войсковые единицы неприятеля.

1812 год. В России (Э. Шаперон).
|
Известие, что русские действуют в телу его армии, на путях сообщения со Смоленском, где предполагалось устройство сильной базы для главных сил, было большой неожиданностью для Наполеона, тем более для него неприятной, что как раз в эти же дни его передовые отряды потеряли из виду наши главные силы, предпринявшие знаменитое фланговое движение; оба эти обстоятельства заставили Наполеона отрядить большие сравнительно силы на все дороги, ведущие к югу и западу от Москвы. Когда наши главные силы заняли Рязанскую и Калужскую дороги и началось Тарутинское сидение, сама собой обрисовалась задача для нашей кавалерии — действовать на сообщения неприятельской армии, и Кутузов тогда сам послал большой отряд драгун, гусар и казаков под начальством генерал-майора Дорохова на пути возможных движений и передвижений французов. Дорохов 10 сентября вышел уже на Смоленскую дорогу, напал на большой французский обоз, взорвал 56 зарядных ящиков и взял в плен более 300 человек. Польза и выгода для нас партизанских действий обрисовалась с полной очевидностью. У французов вообще было мало кавалерии; после Бородина их конные отряды, составленные из солдат разных полков, на своих заморенных лошадях оказались не в состоянии гоняться за нашими отрядами, и нашим партизанам открылось широкое поле деятельности у французов особенно после того, как Москва сгорела, запасы сразу истощились и им пришлось добывать хлеб для людей и фураж для лошадей в местностях, все более и более далеких от главного сосредоточения их сил, т.е. от Москвы. Один за другим стали тогда формироваться Кутузовым большие и малые отряды, которые он поручал офицерам, известным своей храбростью, находчивостью и решительностью. Задача всем этим отрядам ставилась одна: забравшись в тыл и фланги неприятеля, причинять ему сколько можно вреда и неустанно следить за передвижениями французских войск, донося обо всем неукоснительно в главную квартиру.
В то время, как Давыдов действовал на пространстве между Можайском и Вязьмой, отряды других партизанов подвижной завесой охватили все расположение главной французской армии. Полковник князь Вадбольский действовал в окрестностях Можайска, поручик Фонвизин — на Боровской дороге, капитан Сеславин — между Боровском и Москвой, капитан Фигнер — в окрестностях самой Москвы, полковник князь Кудашев на Серпуховской дороге, полковник Ефремов — на Рязанской. Все эти отряды, высланные от главной армии, заняли все пространство к югу от Москвы, между Вязьмой и Бронницами и находились в соприкосновении с такими же летучими отрядами, действовавшими с севера и опиравшимися на отряд генерала Винцингероде, стоявший под Клином; вправо от Волоколамска действовал отряд полковника Бенкендорфа, у Рузы — майора Пренделя и уже в окрестностях Можайска, подавая руку Давыдову, рыскали казаки подполковника Чернозубова; влево от Клина — на Дмитровскую и Ярославскую дороги — были брошены казачьи отряды Победнова, а к Воскресенску был послан майор Фиглев.
Таким образом, во второй половине сентября армия Наполеона, сосредоточившаяся в Москве и ее ближайших окрестностях, оказалась окруженной почти сплошным подвижным кольцом наших партизанских отрядов, которые не позволяли отходить сколько-нибудь далеко от Москвы неприятельским фуражирам и держали в постоянной тревоге аванпосты французской армии. До самого выступления Наполеона из Москвы и во все время его отступления партизанские отряды были истинным бичом Божиим для неприятельской армии. Это была жестокая и беспощадная война. Не имея возможности охранять большие количества пленных, партизаны старались брать пленных поменьше. Французы не считали партизанов регулярным войском и беспощадно расстреливали тех, кто им попадался в руки. Особой жестокостью по отношению к французам прославился капитан Фигнер — у него пленных обыкновенно не было. Своих подчиненных он «воспитывал на жестокость», и однажды не постеснялся обратиться с просьбой к Давыдову, когда узнал, что у него есть пленные, дать их «растерзать каким-то новым казакам, еще, по его мнению, ненатравленным». Про Фигнера ходили слухи, передаваемые очевидцами, что «варварство» его доходило до того, что он, «ставя рядом сотню пленных, своей рукой убивал их из пистолета одного после другого». «Быв сам партизаном, — пишет Д. В. Давыдов, — я знаю, что можно находиться в обстоятельствах, не позволяющих забирать в плен, но тогда горестный сей подвиг совершается во время битвы, а не хладнокровно»... И Давыдов признает, что, случалось, и он должен был давать приказ своим подчиненным брать пленных как можно менее. В таких условиях, когда не только успех, а просто день жизни покупался, так сказать, ценой крови своей или неприятельской, партизаны должны были действовать с необычайной ловкостью, рискуя каждую минуту и побеждая риск не только отчаянной храбростью и жестокостью, но и расчетливой, бдительной осторожностью. Предоставленные своим собственным силам, партизаны выработали особые приемы и способы ведения своего отчаянного дела. О покое и отдыхе думать им не приходилось. Надо было постоянно передвигаться, не застаиваясь на одном месте, чтобы не навлечь на себя превосходные силы французов, надо было находиться в движении день и ночь, и ночью больше, чем днем. В осеннюю распутицу, а потом и в зимний мороз надо было пробираться по невылазным проселкам или по снежным полям без всякого следа дороги, прячась в лесах, скрываясь в оврагах. «Лучшая позиция для партий, — говорит Давыдов, — есть непрерывное движение, не дозволяющее противнику знать место, где она находится; причем необходима неусыпная бдительность часовых и разъездов». Строго руководясь этим правилом, Давыдов всегда успевал увертываться от грозившей ему опасности.

Ген.-м. Д. В. Давыдов.
|
Обыкновенно в партизанском отряде никто, кроме начальника, не знал, куда идет отряд и с какой целью: попадется французам кто-нибудь из отряда, он для них все равно бесполезный пленник, от него ничего не узнаешь, потому что он сам ничего не знает. Узнав о приближении или месте стоянки какого-нибудь неприятельского отряда, начальник партизанского отряда один или с двумя-тремя провожатыми подбирался ближе к неприятелю, высматривал силу отряда, охрану, месторасположение и потом, возвратясь к своим, вел свой отряд на врага и старался устроить нападение врасплох, выбирая вечернее время, или на рассвете, или время обеда. Если неприятельский отряд был не под силу, то оповещались партизаны-соседи, и нападение устраивалось сообща, неожиданно для неприятеля, быстро, с различных сторон. Связь между партизанскими отрядами поддерживали добровольцы крестьяне, прятавшиеся в лесах от французов: пробираясь только им известными глухими лесными тропами, крестьяне переносили известия о французах из одного отряда в другой и доставляли донесения самих партизанов в главную квартиру. Около каждого отряда образовалась постепенно целая сеть добровольных помощников и разведчиков, которые своим невидным, полным опасности, трудом очень облегчали дело партизанов и не раз выручали их из трудных положений. Об этих безвестных героях сохранилось, к сожалению, мало сведений. Про одного такого партизана-добровольца, Рюховского дьячка Василия Григорьевича Рагозина, рассказывают, что он особенно ловко выслеживал неприятельские партии. Обыкновенно он отправлялся один, пробираясь верхом на своей лошадке лесами, которых тогда было не мало между Рюховым, Рузой и Можайском. Узнав от скрывавшихся в лесу крестьян, что в такой-то деревне расположился неприятель, В. Г. Рагозин прятал свою лошадку в лесу, наряжался нищим, выходил на дорогу и спокойно шел в занятую неприятелем деревню, ходил между французами и выпрашивал у них, как умел, подаяние. Французы всегда добродушно относились к мнимому нищему. Только раз, заподозрив в нем шпиона, они едва не убили его... «Выследив» французов, В. Г. Рагозин «гнал» на своей лошадке в Волоколамск, где стояли казаки, и вел их к лагерю неприятеля. Всего в разное время Рагозиным было взято в плен 700 человек; сведения, которые он давал, были настолько точны, а подводил он наших так умело, что французов брали в плен всегда без потерь с нашей стороны.
Из начальников партизанских отрядов особенно прославился своей отчаянной храбростью и смелыми разведками А. С. Фигнер. Еще совсем молодой, блестяще образованный, смелый, ловкий, отлично говоривший по-французски, по-итальянски и по-немецки, А. С. Фигнер, как многие тогда, «воспылал ненавистью к поработителю отечества», т.е. к Наполеону. В то время как другие изливали свою ненависть больше на словах, Фигнер предпочитал действовать. Разочарованный в жизни, как кажется, по причине каких-то личных неудач, он решил погибнуть со славой, принеся пользу отечеству истреблением врагов, и потому не щадил себя. Когда французы заняли Москву, Фигнер, с разрешения Кутузова, взял с собой семь казаков и пробрался в занятый неприятелем город; здесь, одетый то во фрак, то в крестьянский кафтан, то в отрепья нищего, ходил он по Москве, прислушивался к толкам французов, завязывал знакомства, выведывал, что ему было нужно, высматривал расположение армии, а ночью, собрав около себя своих спутников и присоединив к ним несколько решительных человек из оставшихся в Москве, он нападал на отдельных французов и беспощадно убивал их. Про Фигнера Давыдов говорит, что это был человек, «который любил один подвергаться опасностям», и опасности для него были родной стихией. Когда началась при главной армии организация партизанских отрядов, Фигнер, конечно, стал во главе одного такого отряда, и районом своих действий выбрал самый опасный и трудный — Подмосковье. Уже в первом своем донесении в главную квартиру, он мог сообщить, что в результате его трудов было следующее: 1) в окрестностях Москвы истреблено все продовольствие; 2) в селах, лежащих между Тульской и Звенигородской дорогами, побито до 400 человек неприятеля; 3) на Можайской дороге взорван парк: шесть батарейных орудий приведены в совершенную негодность, а восемнадцать ящиков, к сим орудиям принадлежавшие, взорваны; при орудиях взяты: полковник, четыре офицера и 58 рядовых; убито: офицеров три и великое число рядовых.
Про Фигнера, его удаль и отвагу ходили рассказы, которые можно было бы счесть за легендарные, если бы про его подвиги не рассказывали очевидцы и участники, как, например, служивший под начальством Фигнера и Сеславина офицер поляк Бискупский[2]. Быть в опасности, искать самых рискованных приключений вошло как-то в обиход знаменитого партизана и выходило у него само собой, даже без особой рисовки, хотя и похвалиться своей удалью Фигнер был охотник. Любимой его проделкой было забираться переодетым в места стоянки французов и там выспрашивать и выведывать все нужное ему. Это он называл предпринять «странствие». В эти одиночные поиски он отправлялся, опираясь на толстую палку, в которой лишь при тщательном осмотре можно было узнать духовое ружье. Став у какого-нибудь моста или плотины, там, где пролегал путь следования неприятеля, переодетый крестьянином или нищим, Фигнер низко кланялся каждому офицеру, угощал солдат табаком, и меж тем считал и запоминал количество прошедших батальонов, эскадронов и орудий. Особенно он любил втереться в доверие к отдельным французам, завлечь их под разными предлогами подальше в сторону и там пустить в ход свое духовое ружье. Что-то было «сатаническое» в этом артиллерийском капитане, хотя с виду, по внешности, как говорит Д. В. Давыдов, «в нем ничего не было примечательного: он был среднего роста, приятной физиономии, белокур, круглолиц, с серыми глазами, с маленьким круглым носом, ни худ ни толст, но оказывал склонность к последнему».

А. Н. Сеславин. (С.-Обен).
|
Племянник Фигнера, разбираясь потом в причинах жестокости партизана и способности его «озверевать», приписывает эту склонность какой-то наследственной болезни душевной, «не определенной окончательно наукой, но которая как-будто преемственно переходила в несколько поколений нашего угасающего рода». А. П. Ермолов тоже считал Фигнера душевно ненормальным человеком. Эта болезненная жестокость соединялась у Фигнера с каким-то странным отсутствием морального чутья. Убийство исподтишка человека, в доверие которого он вкрался, выходило у него совершенно естественным делом, раз этот человек был пленный, неприятель. Раз он взял в плен французского офицера, ласково обошелся с ним, даже подружился, а когда через несколько дней выведал у него все, что было надо, подошел к нему сзади, «когда сей несчастный обедал с офицерами отряда, и убил его своею рукою из духового ружья своего». С другим пленным офицером он также вошел в дружескую связь и, выведав у него все, что ему было нужно, призвал, в отряде его находившегося, Ахтырского гусарского полка поручика Шувалова и спросил его: «Знаете ли, что ваша обязанность исполнять волю начальника?» — «Знаю...» отвечал тот. «Так пойдите сейчас и задавите веревкой сонного французского офицера или застрелите его». Шувалов отвечал, как благородный офицер, и Фигнер нарядил на этот подвиг унтер-офицера Шианова, известного храбреца, но человека тупого ума, не просвещенного и уверенного, что истребление французов каким бы то ни было способом доставляет убийце царство небесное. Он исполнил приказание. Так венок подвигов храбрости этого партизана был перевит грустной памяти поступками «варварства сатанического». Этой черты за другими нашими партизанами не значится. Конечно, и они не были образцами кротости и милосердия в своем обращении с французами, но пленные, если они их брали, могли оставаться спокойными за свою жизнь и у Сеславина, и у Давыдова, даже у начальников казачьих партий. У Давыдова не обходилось иногда без некоторого, на наш взгляд, может быть, немного театрального жеста великодушия. У одного пленного неприятельского поручика, некоего Тиллинга, казаки отобрали часы, деньги в бумажнике и сняли с пальца кольцо. Тиллинг обратился к Давыдову с просьбой вернуть ему кольцо, дорогое ему по воспоминаниям о любимой женщине. «Увы... — пишет Давыдов, — будучи сам склонен ко всему романическому, сердце мое поняло его сердце, и я обещал постараться удовлетворить его желание... в это время я пылал страстью к неверной, которую полагал верною. Чувства моего узника отозвались в душе моей»... Давыдов расспросил своих казаков и, как он пишет, «был столько счастлив, что отыскал не только кольцо, но и портрет, волосы и письма, ему принадлежащие, немедленно отослал их к пленному поручику при сей записке: «Recevez, monsieur, les effets qui vous sont si chers; puissent-ils, en vous rappelant l'objet aime, vous prouver, que le courage et le malheur sont respectes en Russie, comme partout ailleurs. Denis Davidoff, partisan».
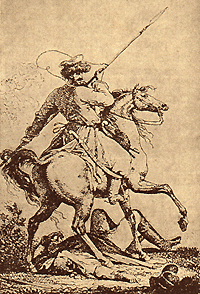
Казак
(Литогр. Лежена 1805 г.).
|
В черном чекмене, красных шароварах, с круглой курчавой бородой и черкесской шапке на голове, всегда бодрый, веселый, поэт-партизан, Д. В. Давыдов труды опасной партизанской жизни переносил, по его словам, как праздник. Еще в ранней юности военное ремесло стало для него страстью; по его собственным словам: «При первом крике о войне он торчал на аванпостах, как казачья пика», и до самой кончины (1839 г.) он сохранил, по словам кн. П. Вяземского, «изумительную молодость сердца и нрава»; всю жизнь он остался полон воспоминаний о партизанской деятельности: «кочевье на соломе, под крышей неба!.. — восклицает он, — вседневная встреча со смертью, неугомонная жизнь партизанская! вспоминаю о вас с любовью и теперь, когда в кругу семьи своей пользуюсь полным спокойствием, наслаждаюсь всеми удовольствиями жизни и весьма счастлив?.. Но отчего по временам я тоскую о той эпохе, когда голова кипела отважными замыслами, и грудь, полная надежды, трепетала честолюбием, изящным и поэтическим».
В храбрости Д. В. Давыдов мог поспорить с Фигнером, но его храбрость была иного сорта: это была храбрость на чистоту; он предпочитал с врагом встречаться лицом к лицу и побеждать в равном честном бою. Человек военный не менее Фигнера, Д. В. Давыдов был типичным для того времени рубакой-гусаром, поклонником Марса столько же, как и Бахуса — немножко бретер, немножко повеса, соображавший, как он сам говорит, «эпохи службы с эпохами любовных ощущений». На коне и в бою во главе своего отряда он забывался до отчаянной храбрости, а на безумной смелости разведки, на охоту за людьми в одиночку, как Фигнер, он не был способен: это претило его прямой и открытой натуре.
Фигнер, наоборот, щеголял больше своими единоличными подвигами, не задумываясь подвергать опасности, иногда совершенно без всякой надобности, своих сослуживцев и соратников. «Один раз, — повествует очевидец и сподвижник Фигнера, — переодевшись французским кирасиром, в белой шинели, привел он свой отряд в лес, приказал людям слезть с коней и молчать, а сам выехал на просеку, вдоль которой пролегала большая дорога, и остановился в тени у опушки леса. Вскоре раздался топот лошадей, говор солдат, и показались по дороге французские кирасиры в колонне по шести. Дав пройти трем эскадронам и, вероятно, уже будучи замечен неприятелями, Фигнер сам сделал оклик: «Qui vive!» Тогда один из офицеров, ехавший на фланге кирасир, отделился от эскадрона и подъехал к нашему партизану, который, обменявшись с ним несколькими словами, повернул лошадь и возвратился к своим. Пройдя с отрядом, по указанию крестьян, служивших проводниками, довольно большое пространство заглохшими тропинками, Фигнер опять оставил своих партизанов в лесу с приказанием слезть с лошадей и отдыхать до его возвращения; сам же он, вызвав ехать с собой двух офицеров польского уланского полка, мундир которых подходил к одежде польских улан, служивших в наполеоновской армии, приказал одному из них, говорившему кое-как по-французски, в случае встречи с неприятелями, отвечать и за себя и за товарища своего, вовсе не знавшего иностранных языков, затем все трое, выехав из леса, увидели в верстах в двух от себя, на открытом пространстве, кругом села довольно обширный лагерь французов. «Поедем к ним!..» сказал Фигнер, и вместе со своими товарищами маленькой рысцой подъехал к лагерю так беззаботно, что часовым даже не пришло в голову остановить его. Приближаясь к кирасирскому полку, проходившему ночью мимо его отряда, Фигнер обратился к стоявшим вместе двум офицерам, пожелал им доброго утра и вступил с ними в продолжительную беседу, между тем как офицеры его, разговаривая поневоле с обступившими их кирасирами, отчаивались в своем спасении. Наконец он распрощался с неожиданными знакомыми, повернул лошадь назад и отъехал несколько шагов, но вдруг опять возвратился к французским офицерам, сделал им несколько вопросов и хладнокровно отправился в лес к своему отряду». В другой раз Фигнер, взял с собой поручика Сумского гусарского полка Орлова, отправился с ним, одев французские мундиры, в главную квартиру командовавшего авангардом французской армии Мюрата. «Пробравшись незаметно через цепь ведетов, Фигнер подъехал к мосту на речке, прикрывавшей неприятельские биваки. Пехотный часовой, стоявший на мосту, встретил его окликом: «Qui vive?» и потребовал отзыв; но Фигнер, вместо отзыва, которого, разумеется, не знал, разругал часового за неправильную будто бы формальность в отношении к рунду, поверяющему посты. Часовой, совсем сбившийся с толку, пропустил обоих партизанов в лагерь, куда Фигнер явился как свой: подъезжал ко многим кострам, говорил весьма хладнокровно с офицерами и, узнав все, что было ему нужно, возвратился к мосту. Там снова сделал наставление знакомому часовому, что бы он не осмеливался останавливать рундов, переехал через мост и сначала пробирался шагом, а потом, приблизясь к цепи ведетов, промчался через нее вместе с Орловым под пулями и возвратился к отряду». В 1813 году, когда наши войска действовали в северной Германии и блокировали Данциг, занятый французами, Фигнер пробрался в крепость и, выдавая там себя за итальянца, прожил в крепости около трех месяцев, причем не только разведывал о силах и средствах противника, но и старался поднять обывателей Данцига против французов. Кто-то донес на Фигнера коменданту, генералу Раппу, и он приказал арестовать подозрительного итальянца. Генерал Рапп сам допрашивал Фигнера, казалось, что ему уже нет спасения, «но необычайная находчивость и изворотливость нашего смельчака и тут выручили его: мало того, что за недостатком улик он был освобожден, но еще успел так вкрасться в доверие Раппа, что тот отправил его с депешами к Наполеону. Понятно, что Фигнер, выбравшись из Данцига, привез депеши эти в нашу главную квартиру, при которой и был временно оставлен, с награждением чином полковника». Так, в этом человеке быстрый, тонкий, проницательный и лукавый ум соединился с лицемерным и жестоким коварством, доходившим до «бессовестности», до «варварства», как говорит современник, отдающий, впрочем, должное Фигнеру, как вождю-партизану, обладавшему «духом непоколебимым в опасностях и, что все важнее для военного человека, отважностью и предприимчивостью беспредельными, средствами всегда готовыми, глазом точным, сметливостью сверхъестественною», личной храбростью замечательной... Это был авантюрист и искатель приключений, не очень разбиравшийся в средствах, и честолюбивый до крайности, живой тип кондотьера, каким-то чудом выросший на русской почве, в XIX-м веке, когда ему следовало бы родиться в Италии эпохи Сфорца и Джакопо Пиччинино. За границей Фигнер организовал отряд из испанцев и итальянцев, насильно забранных Наполеоном в солдаты и дезертировавших от французских знамен. Этот отряд он назвал мстительным батальоном. «Он мне говорил, — рассказывает Д. В. Давыдов, — что намерение его, когда можно будет от успехов союзных армий пробраться через Швейцарию в Италию, явиться туда со своим итальянским легионом, взбунтовать Италию и объявить себя вице-королем Италии на место Евгения; я уверен, что точно эта мысль бродила в его голове, как подобная бродила в голове Фердинанда Кортеца, Пизарра и Ермака; но одним удалось, а другим воспрепятствовала смерть, — вот разница. Все-таки я той мысли, что Фигнер вылит был в одной форме с сими знаменитыми искателями приключений; та же бесчувственность к горю ближнего, та же бессовестность, лицемерие, коварство, отважность, предприимчивость, уверенность в звезде своего счастья».

Донской атаман А. К. Денисов
(Донской музей).
|
А. С. Фигнер погиб смертью храбрых 1 октября 1813 г. в неравной схватке с окружившими его превосходными французскими силами, когда пробирался далеко впереди нашей армии в Вестфальское королевство с целью поднять его население против короля Жерома.
Припертый к Эльбе, после отчаянной попытки пробиться сквозь ряды французов, Фигнер бросился в реку, но, обессилев от раны, не справился с течением и утонул. Тело его не было найдено.
В то время как А. С. Фигнер, как партизан, был человек эффекта и аффекта, Д. В. Давыдов — просто рубакой и поэтом войны, наслаждавшийся военным делом, как родной ему стихией, третий знаменитый партизан Александр Никитич Сеславин отличался большой вдумчивостью в своих действиях и, если так можно выразиться, особой содержательностью тех задач, какие ставил себе в качестве партизана. Так же, как и другие партизаны, он беспокоил чем только мог французов, но, как кажется, главное свое внимание сосредоточил на том, чтобы неусыпно следить за передвижениями наполеоновской армии с целью не упустить момента, когда начнется отступление французов от Москвы. Ему было суждено сыграть выдающуюся роль в тот поворотный момент кампании, когда Кутузов, встревоженный донесениями Дорохова о выступлении французов, послал генерала Дохтурова с большим отрядом, чтобы выяснить характер движения неприятельской армии. Сеславин в это время, скрываясь в лесу, в 4-х верстах от села Фоминского, видел самого Наполеона. «Я стоял, — рассказывает Сеславин, — на дереве, когда открыл движение французской армии, которая тянулась у ног моих, где находился и сам Наполеон в карете. Несколько человек отделилось от опушки леса и дороги, были схвачены...» С добытыми от них известиями Сеславин прискакал к Дохтурову, но осторожный Дохтуров не дал сразу веры донесению Сеславина. Тогда Сеславин сгоряча бросился вторично на французские биваки около Боровска, схватил несколько пленных, одного из них перекинул через седло, и представил Дохтурову для допроса и подтверждения своих слов. Это известие спасло отряд Дохтурова от гибели, а Кутузова вовремя удостоверило и о характере движения Наполеона и о взятом им направлении. В результате наши главные силы успели преградить Наполеону под Малоярославцем путь в южные губернии и заставили его отступать по разоренным войной местностям. Опоздай донесение Сеславина на несколько часов, французы обошли бы нашу армию под Малоярославцем, и исход войны мог бы стать тогда иным. Сеславин потом всю жизнь гордился этим своим подвигом и даже мечтал сам себе отлить статую, изображающую его сидящим на дереве и следящим за французами. И во время отступления французов Сеславин стремился занимать раньше их важные стратегические пункты и пути. Так, он занял вовремя Вязьму, город Борисов, где захватил 3000 пленных, город Забреж, и один раз, около 23 ноября, чуть было не захватил в плен самого Наполеона. Сеславину принадлежит и честь занятия Вильны. Вообще это был партизан, у которого его частная задача начальника партизанского отряда больше чем у других согласовалась и гармонировала с теми общими целями, которые в каждый данный момент должны были осуществляться главными силами армии. Но приемам ведения своего дела он ближе был к Давыдову, чем к Фигнеру, и оба эти сотоварища Сеславина по оружию отзываются о нем с большим уважением. «Сеславина, — пишет Давыдов, — я несравненно выше ставлю Фигнера и как воина и как человека, ибо к военным качествам Фигнера он соединял строжайшую нравственность и изящное благородство чувств и мыслей. В личной же храбрости не подлежит никакому сомнению: он Ахилл, а тот Улисс». «Сеславин достойнее меня, — говорил Фигнер; — на нем не столько крови».
Были среди партизанов и люди иного свойства, нежели Давыдов, Сеславин или Фигнер. Успех дела создал тогда своего рода моду — все захотели быть партизанами. Имитируя и тем самым утрируя внешность партизана, как она рисовалась людям тогдашней немного романтической эпохи, партизаны этого склада больше шумели, чем проявляли полезной деятельности. Про одного такого партизана — Пренделя — товарищи его и современники не без иронии рассказывают, как он, гоняясь за внешним эффектом, старался внушить страх к себе своей наружностью: его взоры метали молнию, его длинные усы, дребезг оружия и громкие угрозы могли поразить ужасом всякого, но сердце у него при всем том «было мягкое, и храбростью он не отличался»; за все время, пока «партизанил», он не совершил ничего замечательного, «нет ни одного действительно военного подвига, который бы совершил он под выстрелами»; вся деятельность его, как партизана, сводилась к тому, что обыкновенно, «захватив пару отсталых, он писал о подобных делах бесконечные донесения».
Но, конечно, не надо думать, что человеческие слабости были чужды Давыдову и Сеславину. В записках и сочинениях своих, как кажется, оба не прочь преувеличить, кое-что рассказать в повышенном «героическом» роде, готовы кое в чем приумолчать о подвигах сотоварища и несколько больше, чем следует, подчеркнуть свои. «Честолюбие, зависть, эгоизм, жестокосердие, все эти им подобные качества, — говорит биограф Сеславина, — не были чужды ни Фигнеру, ни Давыдову, ни Сеславину, ни одному из тех, имя которого со славою красуется в летописях Отечественной войны». Это человеческое и слабое бросает тень на совершенное этими людьми большое дело. Если говорить о них, как о людях, то осуждать их есть за что, но здесь идет речь больше о делах, чем о людях. В суровом подвиге войны они были жестоки не менее других, может быть, даже больше многих, а само по себе кровавое дело войны вообще ведь не может способствовать проявлению в людях добрых инстинктов.

Отступление (Фабер-дю-Фор).
|
Перечислять подвиги других партизанов — Дорохова, кн. Кудашева, кн. Вадбольского и прочих — значило бы без конца повторять одну и ту же повесть храбрых налетов на неприятеля, пленения сотен и тысяч французов, истребление обозов и артиллерийских парков.
Когда партизанская война была в полном развитии, и армия Наполеона была совершенно окружена партизанами, начальники этих подвижных отрядов отваживались сообща и на действия более широкие по своим масштабам и задачам. Одним из таких подвигов было взятие укрепленной французами Вереи, которую неприятель предполагал обратить в базу для своих действий против партизанов. По приказанию Кутузова генерал Дорохов должен был вытеснить неприятеля из Вереи и разрушить сделанные им укрепления. Верея, расположенная на высоком пригорке, была обнесена валом и палисадами и занята вестфальскими войсками в количестве одного батальона. Пятеро верейских жителей незаметно для неприятеля провели отряд Дорохова под самые укрепления. Дорохов, приказав своим идти тихо, без выстрелов сразу повел их в атаку. Вестфальцы, застигнутые врасплох, схватились за оружие, когда наши уже ворвались в город. После короткой, но жестокой схватки, когда неприятель отстреливался из домов и из церкви, Верея была взята; значительная часть гарнизона была перебита, остальные положили оружие. Несколько сот вооруженных крестьян под предводительством священника верейского собора о. Иоанна Скобеева деятельно помогали отряду Дорохова, особенно при уничтожении укреплений. Партизанские отряды наносили неприятелю очень чувствительный урон, и армия Наполеона за время своей стоянки в Москве и под Москвой потеряла, благодаря партизанам, столько людей, сколько могло стоить хорошее генеральное сражение. Только за десять дней с 9 по 19 сентября захвачено было более пяти тысяч пленных, и это при том условии, что партизаны вообще стремились не обременять себя пленными, до конца сентября партизанами было взято свыше 15.000 пленных, а сколько истреблено, того никто не ведает; Наполеон в одном своем приказе пишет, что число людей, захватываемых неприятелем в плен при производстве фуражировок, простирается до нескольких сотен ежедневно, и что маршал Ней теряет каждый день при фуражировках больше, чем на поле сражения. Трудно также установить, сколько было захвачено и уничтожено партизанами запасов фуража и артиллерийских припасов. Перехватив все дороги в тылу неприятеля, неожиданно появляясь то тут, то там, отряды партизанов прервали скоро всякое сообщение французской армии с ее тылом. Почти все транспорты и курьеры, направлявшиеся к французам, выслеживались нашими партизанами и становились их добычей. В результате французская армия голодает. Jamais je ne fus plus degoute, — писал 25 сентября Мюрат генералу Белльяру, — jе suis fatigue de courir de grange en grange et de mourir de faim, — и несколько дней спустя в другом письме его звучит уже прямо отчаяние; «Ма position est affreuse, — пишет он, — toute l'armee ennemie est devant moi; les troupes de l'avant-garde sont reduites a rien; elles souffrent de la faim et n'est plus possible d'aller fourager sans courir presque la certitude d'etre pris; il n'y a guere de jours que je ne perde de cette maniere au moins deux cents hommes comment cela finira-t-il?.. Envoie nous de la farine, on nous allons mourir de faim»... но напрасно взывал Мюрат о присылке ему муки — в Москве сами голодали, и пропитание великой армии давно уже стало зависеть от того, что достанут фуражиры. Так как благодаря деятельности наших партизанов, фуражировки для малых неприятельских отрядов сделались невозможными, то для сбора припасов и для сопровождения транспортов приходилось отправлять большие отряды пехоты и конницы с артиллерией.
На Можайской дороге французам пришлось разместить целые массы войск, чтобы хоть сколько-нибудь обезопасить сообщение главной армии с ее этапами к Смоленску; вечное беспокойство, которое партизаны причиняли французам, заставляло их держаться под ружьем днем и ночью, так что полки, расположившиеся кругом Москвы на зимние квартиры, принуждены были вместо отдыха нести такие же труды, каким подвергались в походе; в результате все растет и растет деморализация армии, начало которой положил пожар Москвы. Перед французскими начальниками действительно вставал вопрос comment cela linira-t-il, и ободряющего ответа не было ни у кого.
Успех партизанских действий под Москвой вызвал организацию партизанских отрядов также и при других наших армиях — при корпусе Витгенштейна и при армии Чичагова. Чичагов бросил своих партизанов глубоко в тыл неприятеля, в герцогство Варшавское, с поручением уничтожить там запасные магазины наполеоновской армии. Полковник Чернышев, начальствовавший этими партизанами, с честью выполнил возложенную на него задачу и навел панику до самой Варшавы.
Когда началось отступление французов из Москвы, кольцо партизанов, окружавшее французскую армию, развернулось и, вытянувшись вдоль флангов отступавшего неприятеля, стремилось все время сомкнуться впереди него. Давыдов, Сеславин, Фигнер и другие действовали, главным образом, на флангах отступавших французов, производя все время набеги и налеты на колонны французов, беспокоя их биваки, охватывая обозы и парки. Полковнику Ефремову приказано было, следуя по правому флангу неприятеля, заходить вперед и, предупреждая его на марше, беспокоить при остановках. Большой партизанский отряд гр. Ожаровского был направлен к Смоленску специально для истребления неприятельских магазинов, обозов и отдельных отрядов. С тыла французов преследовали казаки Платова.

Партизан А. С. Фигнер. (Тропинина).
|
«Партизанские отряды сопровождали длинную колонну Наполеона, — пишет Ф. Гершельман, — растянувшуюся на несколько десятков верст, с флангов. Как слепни липнут к измученному животному, также точно и легкие партизанские партии вились около французской армии, бессильной в борьбе с ними... Партизаны направляли свои удары, главным образом, в промежутки между двигавшимися эшелонами, срывали следовавшие здесь обозы, отбивали отсталых, орудия, отрывали иногда от колонн неприятельских целые части, растянувшиеся на утомительном марше. С приближением войск партизаны отхлынут от дороги, а затем опять появятся в другом месте и, постоянно тревожа противника, не дают ему покоя ни на марше, ни на биваке... Самому Наполеону не раз приходилось близко около себя видеть отважные партии наших наездников, подлетавших и к правильным еще колоннам французов». Д. В. Давыдов приводит два случая такого своего, как он выражается, «свидания» с Наполеоном. 21 октября Д. В. Давыдов, разбив большую партию отставших французов, гнал их перед собой — «катил головней», не будучи в состоянии по малочисленности своего отряда захватить всех в плен. «Надо было видеть, — пишет он, — как вся масса ужаснулась при появлении моих немирных путешественников, надобно быть свидетелем этого странного сочетания криков отчаяния с возгласами одобрительными, выстрелов защищающихся, с треском взлетавших на воздух зарядных ящиков; все это покрывалось громкими «ура»... моих казаков. Это более или менее продолжалось до времени появления французской кавалерии и за нею гвардии; тогда по данному мною сигналу вся партия отхлынула от дороги и начала строиться. Между тем гвардия Наполеона, посредине которой он сам находился, стала надвигаться. Вскоре часть кавалерии бросилась с дороги вперед и начала строиться с намерением отогнать нас далее. Я был совершенно убежден, что бой мне далеко не по силам, но я горел желанием погарцевать вокруг Наполеона и с честью отдать ему прощальный поклон за посещение его. Свидание наше было весьма недолговременно; умножение неприятельской кавалерии, которая тогда была еще в довольно изрядном состоянии, принудило меня вскоре оставить большую дорогу и отступить перед громадами, валившими одна за другой. Однако во время этого перехода я успел взять с бою в плен 180 человек при двух офицерах и до самого вечера конвоировал с приличным почетом Наполеона...»

А. С. Фигнер.
|
Но когда французская кавалерия, потеряв массу лошадей от отсутствия корма, сошла почти на нет, партизанам все же не всегда была под силу правильная борьба с регулярным войском, сохранившим еще строй: залпами пехоты и артиллерии французы довольно удачно отбивались в таких случаях от наседавшего на них неутомимого врага. Старая гвардия Наполеона, отступавшая в полном порядке до самой Березины, была прямо недосягаема для партизанов.
«3 ноября, — пишет Д. В. Давыдов, — отряд гр. Ожаровского подошел к Куткову, а партия Сеславина, усиленная партией Фигнера, — к Зверовичам. Сего числа, на рассвете, разъезды наши дали знать, что пехотные неприятельские колонны тянутся между Никулиным и Стеспами. Мы помчались к большой дороге и покрыли нашей ордой все пространство от Аносова до Мерлина. Неприятель остановился, дабы дождаться хвоста колонны, спешившего на соединение с ним. Заметив сие, гр. Орлов-Денисов приказал нам атаковать их. Расстройство этой части колонны неприятельской было таково, что мы весьма скоро разбили ее, захватив в плен генералов Альмераса и Бюрта, до 200 нижних чинов, четыре орудия и множество обоза. Наконец подошла старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон. Это было уже за-пол-день. Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько не покушались мы оторвать хоть одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы; я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля... Командуя одними казаками, мы жужжали вокруг сменявшихся колонн неприятельских, у коих отбивали отставшие обозы и орудия, иногда отрывали рассыпанные или растянутые по дороге взводы, но колонны оставались невредимыми... Все наши азиатские атаки не оказывали никакого действия противу сомкнутого европейского строя... Колонны двигались одна за другой, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством. В течение этого дня мы еще взяли одного генерала, множество обозов и до 700 пленных, но гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими лодками».
Партизанские отряды и во время преследования наполеоновской армии действовали то в одиночку, то сообща. Так, узнав, что в деревне Ляхово остановился на дневку отряд генерала Ожеро[3], партизаны Давыдов, Сеславин и Фигнер соединились вместе, привлекли к себе гр. Орлова-Денисова, напали на Ляхово и принудили Ожеро положить оружие и сдаться в плен; подмогу, шедшую к Ожеро, они тоже разбили. Не мало затрудняли партизаны движение великой армии и тем, что, забегая вперед, портили всячески дорогу, разрушали мосты, гати и плотины на пути ее следования; благодаря постоянному соприкосновению с противником, партизаны всегда были великолепно осведомлены о планах и намерениях противника; захватывая неприятельскую почту, перехватывая курьеров, посылавшихся в отдельные корпусы или во Францию, а также ехавших оттуда, партизаны нарушали связь между отдельными частями армии и тем затрудняли их совместное действие, а, с другой стороны, доставляя все добытые сведения в главную квартиру, давали Кутузову возможность знать почти наверняка и о состоянии французской армии и обо всем ее движении. Партизаны поддерживали в то же время связь между главной армией и армиями Витгенштейна и Чичагова. Но, может быть, самым важным результатом деятельности партизанов был тот толчок, который они дали развитию народной войны. Бежавшие в местностях, занятых неприятелем, крестьяне, вооружаясь топорами, вилами, дубьем, у кого были и ружьями, предпринимали настоящие охоты за отсталыми французами, осмеливались даже нападать на отдельные мелкие отряды фуражиров, неосторожно забиравшихся далеко от своих главных сил. Эта народная партизанская война разрасталась сама по себе все сильнее и шире по мере дальнейшего вторжения французов вглубь страны, а но занятии ими Москвы приняла и очень серьезный характер.
С. Князьков.
[1] На основании архивных данных полк. Н. П. Поликарпов («Нов. Жизнь», 1911 г., кн. VIII, стр. 133 и след.) показывает, что начало партизанских действий относится к периоду гораздо более раннему, чем принято думать. Набег Дениса Давыдова приходился на конец августа. Между тем партизаны действовали уже начиная с 20-х чисел июля. Идея партизанских действий принадлежала не Давыдову, не Багратиону, и не Кутузову, а Барклаю-де-Толли. После соединения с Багратионом под Смоленском, 23 июля Барклай сформировал летучий партизанский отряд из Казанского драгунского, трех донских казачьих и Ставропольского калмыцкого полков под общим начальством ген. Винцингероде для действия против левого фланга французов. Уже в ночь с 26-го на 27-ое Барклай получил от Винцингероде важное известие из Велиха о намерении Наполеона двинуться из Поречья к Смоленску, чтобы отрезать нам отступление. И потом отряд Винцингероде все время продолжал действовать против флангов неприятеля, разбившись на более мелкие отряды. Ред.
[2] Несомненно, однако, в рассказах о партизанских подвигах были преувеличения: «партизаны, — говорит кн. Волконский, — морочат читателей рассказом о многих небывалых стычках и опасностях» («Зап.», 207, 211). Ред.
[3] Его не следует смешивать с маршалом Ожеро, который находился в это время в Германии во главе своего корпуса. Ред.