
|
|
«Храм верности» в саду кн. А.Б. Куракина в его селе Надеждине.
|
Галерея, нареченная вместилище «чувствию вечных». В саду кн. А.Б. Куракина в его селе Надеждине.
|
|
(Рис. В. Причетников).
|
ВОЙНА И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
II. 12-й год и великосветское общество.
И.Н. Игнатова
«Война и мир» Толстого.

начала прошлого столетия народы Европы обнаруживают тенденцию двигаться с Запада на Восток. Эта тенденция длится в течение нескольких лет, поддерживается, распространяется, осуществляется, несмотря на попытки помешать ей, потом внезапно меняет направление и переходит в стремление, обратное прежнему. Уже не с Запада на Восток, а с Востока на Запад движутся народы, и в этом стремлении так же, как в предыдущем, осуществляют не волю отдельных личностей, не каприз какого-нибудь Наполеона или желание других властителей, а нечто гораздо более сильное и общее — «печальный закон необходимости». Исторические события производятся не волею отдельных людей, как бы ни бросались в глаза эти люди при изучении событий. В механизме общественной машины главное значение имеет не та щепка, которая первая бросается в глаза и которая в действительности тормозит движение, а незаметная шестерня, без которой отправление машины сделалось бы невозможным. Сколько бы ни говорили историки, что Бородинское сражение не окончилось совершенным разгромом русской армии из-за насморка Наполеона, какие бы прекрасные диспозиции ни писали генералы перед боем, — ни состояние, физическое или душевное, Наполеона, ни распоряжения генералов не играли и не играют никакой роли в исходе сражений, и отдельный незаметный солдат значит не меньше, чем всеми прославляемый Наполеон или другие известные своей научной военной подготовкой генералы. Есть «печальный закон необходимости», и сколько бы ни говорили о свободной воле власть имеющего лица, которое правит событиями по своему произволению, на самом деле все совершается на основании этого закона необходимости. В чем он? Можем ли мы понять его? «Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений». Не будучи в состоянии постигнуть ее, люди для объяснения исторических событий подставляют слова «случай», «гений». И, употребляя эти слова и оперируя с ними, они уподобляются стаду баранов, которые должны думать, что отгоняемый каждый вечер в особый денник для откармливания и становящийся толще других баран — гений. «Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей» и «ежели они и не будут знать, для какой цели их откармливали, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды ни в понятии случая, ни в понятии гения».
Таковы, как известно, воззрения Толстого на историю и на события 1812 года. Движения, имевшие такое огромное влияние на судьбу целых стран, совершались по закону необходимости, охватить и понять который мы не можем, но можем, отрешаясь от мысли, что все происходит для достижения «бараньих целей», постигнуть единство и последовательность явлений. Во всяком случае, роль отдельных людей, поставленных на вид историей, тут ни при чем, ибо «мысли и слова, служащие их выражением, не суть двигатели людей».

Кн. В.В. Голицына.
|
Каким бы странным ни казался читателю отрицательный взгляд на значение «мысли и слов», — взгляд писателя, всю жизнь пытавшегося «двигать» людей словом, но для наблюдения над общественным движением, изображенным в «Войне и мире», нам нет необходимости долго останавливаться над ним. Пусть в великом столкновении народов в начале XIX столетия Наполеон значил не больше, чем ничтожная щепка, попавшая в большую машину, — не подтверждение, и иллюстрацию этой мысли ищем мы в знаменитом романе: «единство и последовательность» событий 12 года кажутся нам яснее и понятнее при знакомстве с той общественной жизнью, которая представлена в «Войне и мире». Каковы бы ни были исторические взгляды Толстого, согласен или не согласен с ними читатель, но, кроме великолепных картин индивидуальной н общественной психологии, он находит в романе богатейший материал для знакомства с ходом событий 12 года, — материал, главным образом, заключающийся в характеристике общества, его отдельных членов и их отношений. Недостаток места позволяет нам воспользоваться только небольшой частью этого обширного материала, только напомнить в коротких словах читателю, какою, в изображении Толстого, представилась нам Россия в годы, предшествовавшие 12 году, и в течение Отечественной войны.
I.

Кн. Ф.С. Голицын.
|
Перед нами небольшая общественная группа. Небольшая, но сложная, вмещающая в себе элементы, которые позднее войдут в состав нескольких самостоятельных групп, поклоняющихся различным богам, враждующих и пытающихся вытеснить одна другую. То, что позднее найдет свое выражение только в интеллигенции или только в чиновничестве, что сделается характеристикой только разночинцев или только дворянства, — здесь объединено в одном слое, в одной небольшой, но сложной и занимающей высшее положение группе. Все, что характеризует население со стороны ума, знаний, так же, как знатности и почестей, совмещается в ней. Здесь и западные влияния, и русский опыт, и ученость, и развитие, и барская спесь, и чиновничье почитание, и помыслы о человеческом достоинстве, и презрительное отношение к подчиненному. Все те острые углы, на которые впоследствии натолкнется общество и которые разъединят отдельные общественные группы, создав конфликты по поводу каждого вопроса, здесь пока не существуют. Нет глухого брожения каких-то таинственных сил, нет заранее подсказанного принципиального разъединения. Члены этой группы не имеют конкурентов в другой среде ни по знатности, ни по чинам, ни по государственным заслугам, — это само собой разумеется. Но и в области ума, знаний, талантов они не имеют соперников; еще не произошло отделения таланта, ума и знания от знатности и величия. И самые привилегии кажутся законными не только потому, что они освящены временем и привычкой, но и потому, что люди, пользующиеся ими, в духовном отношении стоят бесконечно выше других групп населения. Конечно, не все они одинаково умны, образованны и талантливы: и между ними есть Ипполиты Курагины, Анатоли и Берги. Больше того. Не подлежит ни малейшему сомнению, что большинство, громадное большинство этого общества не имеет даже смутного беспокойства о тех вопросах, которыми полна духовная жизнь князя Андрея или Пьера Безухова. Но если в России этого времени есть известное накопление знаний, ума, дарования, то оно хранится здесь, в этой группе князей Болконских, графов Безухих, — здесь и, лишь в виде исключения, в отдельных представителях других групп. Но и Ипполиты Курагины, и Анатоли, и Берги, не имеющие ни ума, ни знаний, ни талантов, не относятся со злобой и раздражением к князьям Андреям и Пьерам Безухим за то, что область мышления последних превышает обычную сферу мышления Ипполита и других на неизмеримую высоту. Не имеют злобы и раздражения, во-первых, потому, что это — люди своего круга, знатные, богатые, занимающие высокое положение. Во-вторых, еще не успели Курагины постигнуть горечь плодов познания добра и зла и не имеют надобности кричать: ученье — вот беда, ученость — вот причина. Конечно, и в этом кругу посреди блестящих князей Васильевых, Болконских, Курагиных, графов Безухих и Ростовых, могущих вывесить в парадных комнатах своих дворцов, длиннейшие генеалогические таблицы, может появиться богатый дарованиями и умом homo novus, Сперанский, «кутейник», не имеющий ни титулов, ни предков, ни богатства. Какое встретит он к себе отношение? И зависть и злоба будут, конечно, но не столько, как к человеку другой враждебной среды, сколько как к сопернику, грозящему занять соблазнительное место, сочиняющему страшные правила об экзаменах для почтенных чиновных людей. Но рядом с завистью homo novus встретит восторженное отношение к себе со стороны наиболее талантливых представителей великосветской среды. «Князь Андрей питал к нему (к Сперанскому) страстное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарте. То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это делали многие, пошло презирать в качестве кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться со своим чувством к Сперанскому и бессознательно усиливать его в самом себе». Но и князь Андрей относится так к Сперанскому не потому, что идеи равенства и вреда привилегий уже пустили корни в обществе, а, наоборот, именно потому, что они еще не волнуют этого общества, и острый вопрос о «правах человека» как бы не существует для него. Почти девственная почва еще не захвачена теми возбуждающими вражду вопросами, которые возникнут, окрепнут и обострятся позднее.

Графиня В.С. Строганова.
(Пис. Виже-Лебрен).
|
Привилегии поддерживаются в равной степени нелицемерным признанием непривилегированных и безмятежным сознанием тех, кто вознесен на пьедестал. Тот небольшой по численности, но огромный по значению мирок, который описан Толстым, конечно, испытывает волнения; конечно, шевелятся и беспокойные мысли и чувство недовольства, но все эти волнения и беспокойства ютятся не около тех, позднее жгучих вопросов, в которых затрагивается самая идея о первенствующем значении сословия. Волнения относятся к внутрисословной, семейной или индивидуальной душевной жизни. Недовольство направляется против людей, а не против учреждений, не против порядков. Князь Андрей, — недовольный, критический ум, «желчевик» по складу характера, скептик по направлению ума,— смотрит на окружающее его общество с презрением. Но не мысль о негодности этого слоя его волнует, не чувство несправедливости привилегированного положения беспокоит, — нет: только люди кажутся ему мелки, только отдельные лица возбуждают его презрение. Да и несправедливо было бы это презрение ко всему слою; ни на чем не основано было бы негодование, направленное против исключительной роли, играемой «сливками» общества. Ибо в данный момент это действительно — сливки, и ничто и никто не может сравниться с ними не только по тем привилегиям, которые даются знатностью, но и по дарованиям и образованности. Отдельные люди могут возбуждать негодование, но в целом это все-таки — цвет нации.

Кн. Е.Ф. Долгорукая.
(Пис. Виже-Лебрен).
|
И потому в остальном обществе нет критического отношения к учреждениям, — по крайней мере, о них не доносятся слухи в то блестящее общество, которое собирается у Анны Павловны, которое кутит с Анатолем Курагиным, в которое входят и ищущий правды Пьер Безухой, и обладающий ясным аналитическим умом кн. Андрей. Это в полном смысле слова — «органический» период общественной жизни, где возникающие разрушительные течения еще ничтожны и незаметны даже для тех, кто скоро воспримет их в себя. Пройдет немного времени, они проявятся и потекут сильнее и придадут яркую окраску существованию как отдельных людей, так и жизни всего общества. Пройдет немного времени, и Пьер будет искать выхода из своего невыносимого душевного состояния в масонстве, а потом в политических тайных обществах. Но сейчас, в период, предшествующий Отечественной войне, в начале XIX столетия, в те годы, которыми открывается роман, ничего подобного нет. Руководящий класс населения не знает сомнений и критики. Самые сильные и критически настроенные умы, мечтая о деятельности, «славе», пользе государственной и своей, видят перед собой одно поприще, одну ясную, блестящую и полезную дорогу — военную. Пьер, выбирая род деятельности, колеблется между дипломатией и военной службой. «Кавалергард ты будешь или дипломат?» спрашивает князь Андрей. И Пьер, чувствуя инстинктивное отвращение к той и другой службе, понимает, что выбрать необходимо, что иного пути нет и выбор должен остановиться действительно только между этими двумя карьерами. И никто не предполагает ничего другого; колебания Пьера понятны и кн. Андрею, и. кн. Василию, и Ипполиту; но понятны лишь до тех пор, пока он признает для себя необходимым сделаться или дипломатом, или кавалергардом; ни умный, самостоятельный князь Андрей, ни глупый, банальный Ипполит, ни дипломатический князь Василий одинаково не понимают и не допускают, чтобы человек их круга не признал подходящей для себя ни ту ни другую карьеру. Деятельность человека высшего общества, единственного общества, о котором, по их мнению, стоит говорить, может быть осуществлена только на дипломатическом или военном поприще. И на военном, конечно, больше, чем на каком-нибудь другом.
II.
Чем живет это согласное, нетревожимое сомнениями, состоящее из самых разнообразных, но еще не расчленившихся элементов общество? Конечно, как и позднее, в этом кругу большая, очень большая часть его живет «ловлей рублей, крестов, чинов». Князь Василий употребляет все усилия, готов дойти даже до преступления, чтобы получить в свою пользу громадное наследство графа Безухого. Преступление, понятно, не должно быть открытое, — рисковать он не будет, — но уничтожить потихоньку готовое завещание, не исполнить волю умершего можно и даже нужно, раз интересы его, князя Василия, задеты. Борис Друбецкой стремится перейти из армии в гвардию, потому что там, в кругу блестящих гвардейских офицеров, при возможности постоянного знакомства с власть имущими, он быстрее составит карьеру, получит богатую невесту, нахватает много чинов и орденов. К тому же стремятся и другие; и недовольство, даже вражду их возбуждают не те, которые видят жизненную цель в другом, не те, пред кем назначение человека рисуется в других красках (о существовании таковых они не предполагают, а если встретятся подобные Пьеру, так это просто — смешные чудаки, не понимающие собственной пользы), — они чувствуют неприязнь к тем, кто становится на их пути, мешает их карьере, перебивает счастливую возможность успеха. Их противники — не люди других убеждений, а носители тех же принципов. Князь Василий ненавидит Пьера не за поиски правды, которых он не понимает, а за то, что Пьер может перебить у него громадное состояние графа Безухого. Понятно, что как только яблоко раздора исчезло, прежние противники могут сделаться друзьями; когда наследство графа Безухого делается окончательно достоянием Пьера, князь Василий ищет в родстве с Пьером осуществления хотя небольшой части своих прежних надежд.

Старая гвардия перед портретом римского короля накануне Бородинской битвы.
|
Их внешняя жизнь — игра. В салоне Анны Павловны они играют увлекательно и красиво. Нет естественности, ни искренних порывов, ни продуманных убеждений. Когда Пьер и аббат затевают разговор о политическом равновесии и оба «слишком оживленно и естественно слушают и говорят», это нарушает порядок игры в салоне Анны Павловны, и она торопится свести естественный и горячий разговор к привлекательному, остроумному, но банальному перекидыванию словами, которые никого не затрагивают.

Кн. Е.В. Вяземская.
|
Все это, — и внешняя красивая и банальная игра, и действительные стремления к «ловле рублей, крестов, чинов», — конечно, свойственны этому обществу, как и позднее будут они свойственны людям того же круга. Но среди карьеристов, провиденциальных младенцев, искусных игроков и салонных болтунов есть в этом кругу те, которые недолго в нем останутся: есть князья Андреи, есть Пьеры, — и в салоне Анны Павловны «собрана интеллигенция Петербурга». И от участия Андрея и Пьера меняется вся физиономия этой группы. Пускай она искусственна, банальна, проникнута ложью, прикрытой внешним блеском, пускай «рубли, кресты и чины» составляют ее главную сущность, как это и будет позднее, но искания Пьера, но критический ум князя Андрея создают для этой группы ореол интеллигентности, значение наиболее богатой духовно и наиболее образованной группы. И они не случайно вошли в группу, князья Андреи, Пьеры, — они плоть от плоти ее, кость от кости. И не только происхождение их соединяет, но и многие привычки, многие взгляды, общее поприще деятельности. Если Пьер колеблется между военной и дипломатической карьерой, инстинктивно чувствуя отвращение к той и другой, то этот инстинкт еще не перешел в сознание, причина отвращения еще не успела принять определенные формы. Он не говорит: «служить бы рад, прислуживаться тошно»; — просто его более интересует решение любопытных жизненных вопросов, чем какой бы то ни было род службы. Но князь Андрей, умный, самостоятельный, способный идти не по проторенным дорогам, не может представить для себя иной деятельности, кроме военной. Он знает, что он неизмеримо выше того общества, которое собирается в гостиной у Анны Павловны, что князь Василий и его блестящие сыновья, гвардейцы и дипломаты, титулованные и звездоносные, — мелочь, для которой недоступны волнующие его мысли. «Все бывшие в гостиной не только были ему знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно». Ему, как большому кораблю, нужно было гораздо большее, чем им, плаванье. Где же он ищет этого большого плаванья? Конечно, в военной службе, рядом с Анатолем Курагиным, с Борисом Друбецким, с Бергом. И не только потому, что «Буонапарте всем вскружил голову», как утверждают некоторые действующие лица романа, а потому, что, кажется ему, нет другого поприща, где большие силы отдельного человека могли бы найти более достойное применение, нет общественной службы, которая в данный момент так захватывала бы человека и так полезна и нужна была бы государству.

Кн. В.М. Кочубей.
|
Так думают (и не только думают, — знают) все представители группы; так думает князь Андрей. И когда его волнуют мечты об известности, о славе, — они неотделимо сплетаются с помыслами о войне, битвах, военных великих планах, о том поприще деятельности, на котором работают и Николай Ростов, и Борис, и Анатоль Курагин. «Как выразится мой Тулон»? — спрашивает себя кн. Андрей в минуты наибольшего душевного подъема, и перед его глазами проносятся картины его военной славы: «налево, внизу, в тумане, слышалась перестрелка между невидимыми войсками. Там, казалось князю Андрею, — сосредоточится сражение, там встретится препятствие, и туда-то я буду послан, — думал он, — с бригадой или дивизией, и там-то, со знаменем в руках, я пойду вперед и сломлю все, что будет предо мной». Князь Андрей не мог равнодушно смотреть на знамена проходивших батальонов. Глядя на знамя, ему все думалось: «может быть, это то самое знамя, с которым мне придется идти впереди войск».

Н.К. Загряжская.
(Пис. Васильевский).
|
Мечты и желания князя Андрея, результаты «ума холодных наблюдений» сходятся с чувствами пылкого и недалекого юноши, Николая Ростова, мечтающего о том, как он будет «рубить» неприятеля и с азартом повторяющего: «ну, попадись теперь кто бы ни был». Время, когда холодный ум, анализирующий и самостоятельный, сходится со стремлением, с чувствами пылкого мальчика, видя в сражении, в войне, в военной службе высшее дело, — не время широких индивидуалистских стремлений, не время критики общественных отношений: служба государству ставится на первый план без рассуждений, без желания доказать кому-то, что так нужно, что люди, поступающие иначе, — люди «не государственные», или «противо государственные». Если князь Андрей мечтает о военных подвигах, если его скептический ум не пытается еще анализировать и подвергать критике самое существование войны, то в каких красках должна рисоваться военная служба какому-нибудь Николаю Ростову, Пете, Ваське Денисову, всем искренним, не рассуждающим, а чувствующим и воспринимающим детям своего времени? Нужны тяжелые удары судьбы, наглядные уроки опыта, чтобы озлобленный и все более склоняющийся к пессимистическим воззрениям князь Андрей говорил Пьеру о необходимости ограничить право войны, и о казни пленных, как средстве для этого ограничения: «ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда стоит того идти на верную смерть, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иваныч обидел Михаила Иваныча. А ежели война как теперь, так война. И тогда интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это, а не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Все в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А то войны — это любимая забава праздных и легкомысленных людей. Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества. Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии, обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия — отсутствие свободы, т.е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И, несмотря на это, это— высшее сословие, почитаемое всеми»...
Но все это — позднее, не только после Аустерлица и других уроков, но и после Смоленска и ударов, нанесенных проникновением неприятеля в страну. Да и позднее уроки действительности учат лишь небольшую часть властной общественной группы; они влияют лишь на таких, как Пьер или князь Андрей. Все остальное, искреннее и нерассуждающее, только связанное со всей исходящей от верований, обычаев, вековых взглядов, атмосферой долго остается в тех чувствах и стремлениях, как Болконский в начале романа. Да и сам князь Андрей, несмотря на пробудившееся отрицательное отношение к войне, идет в армию, потому что, действительно, военная служба представляет в этот момент наиболее широкое поле для энергичной деятельности и даже высоких стремлений. И понятно, почему общество, собирающееся у Ростовых, встречает одобрением известие о поступлении студента Николая в военную службу.
III.
В этом обществе, любящем и уважающем военную службу, понимающем и одобряющем ее дисциплину, жива и собственная дисциплина, основанная не на одном страхе перед старшими, но и на любви и почтении к их взглядам. Здесь нет «отцов и детей», т.е. того разногласия между поколениями, которое мешает им спеться и создает постоянные поводы для конфликта. Если между князем Андреем и его отцом, старым князем Болконским, нет согласия во взглядах, если княжна Марья окружает себя богомолками и нищенствующими, веры которых не разделяет ее отец, то не в глубокой розни поколений здесь дело, не в новых умственных течениях, которыми вытесняются прежние. Князь Андрей и его отец — слишком резко определенные, самостоятельные и неуживчивые натуры, чтобы безмятежно жить друг около друга. И хотя один считается человеком «старого века», а другой принадлежит к молодому поколению, но на почве принципов и воззрений конфликтов не происходит. Старый князь, беседуя с Ростопчиным, Лопухиным и другими «своими» людьми по поводу захвата владений герцога Ольденбургского Бонапартом, сравнивает отношение Наполеона к герцогам со своим обращением с мужиками. «Предложили другие владения заместо Ольденбургского герцогства... Точно я мужиков из Лысых гор переселял в Богучарово, и в Рязанские, так и он герцогов». И то, что старому князю кажется верхом несправедливости по отношению к герцогам, не возбуждает никаких сомнений по отношению к мужикам. Его право выселять крестьян по своему произволу из насиженных гнезд, из Лысых Гор в Богучарово или обратно, представляется до такой степени естественным и бесспорным, что для доказательства беззаконных действий Наполеона по отношению к герцогам он не может подобрать лучшего примера. Он говорит о праве произвольного обращения с мужиками, как теперь говорят о животных, как для доказательства дурного отношения к людям, прибегают к обычному сравнению: «обращение с людьми, как со скотами». А рядом сын старого князя, Андрей, свободно принимает относительно своих крестьян ту меру, которая рекомендовалась государственными новаторами, — и это распоряжение его не встречает резкого отпора со стороны отца, принадлежавшего к «старому веку». Да если бы так и было, — это не могло бы называться жизнью «поколений», потому что поколение князя Андрея этих идей не ставило во главу угла своего мировоззрения. Но не одним отсутствием резких принципиальных разделений поддерживается семейное согласие Ростовых, и сравнительно легко переносится иго тяжелого характера старого князя Болконского. Все это — свидетельства огромного запаса почтения к старшим, той искренней внутренней дисциплины, которая предполагает в подчиненных и младших членах семьи или общества полное признание прав старшинства, которое не допускает сомнений в возможности пользоваться этими правами. Княжна Марья под тиранией отца чувствует не его несправедливость, а свою постоянную вину, и стремится в новых проявлениях почтительности доказать свою любовь и уважение. Богатый запас любви и душевной мягкости, накопленный ею, направляется весь в сторону поддержания того уклада жизни, который сводит ее роль на степень бессловесного, безвольного и не имеющего самостоятельного значения существа.

Гр. Эделинг.
|
Любовь и почтение к старшим в семье сопровождается любовью и почтением к наиболее старшим в государстве. Это даже — не просто любовь, не просто почтение; это — обожание, восторженное и умиленное коленопреклонение перед тем, кто олицетворяет собой государство. Николай Ростов переживает минуты влюбления в Александра I, — минуты восторга и самоотверженного обожания, доходящего до паралича воли, до неспособности действовать согласно собственному желанию. «Он весь поглощен был чувством счастья, происходящего от близости государя... Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания... По мере приближения (государя) все светлее, радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос — этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос». Командир эскадрона Денисов «и разделяет и одобряет» чувства Ростова; «и старый ротмистр Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем двадцатилетний Ростов».
Это — не насильственно внедряемое, искусственное чувство, в котором участвует не столько любовь к кумиру, сколько ненависть к его предполагаемым врагам. Здесь все естественно, все лишено преднамеренности, все связано неразрывными узами с окружающей атмосферой, где нет и не может быть и не предполагается отрицательного отношения к кумиру. Не нужно ненависти, не надо этою любовью к Александру доказывать каким-то врагам внутренним их неправоту и черноту: не допускается и мысли, чтобы к этому общему любимцу могло быть какое-нибудь другое чувство, кроме уважения, признания и восторженного преклонения. Это — выражение всего общественного уклада, когда без подозрения, без критики принимается право старших, и существующее признается неизменным до тех пор, пока перемены не будут признаны необходимыми сверху. Можно сказать, что даже в «органическую» эпоху это — момент исключительного общего согласия, когда существующее поддерживается не только привычкой, обычаем, отсутствием критического духа, но и особым расположением к данному лицу, стоящему во главе государства.
Отсутствие критики, некоторая ленность мысли (не существующая, однако, у таких представителей этого круга, как Пьер или князь Андрей) поддерживается необыкновенной медленностью в передаче сообщений. Позднее (даже много позднее) и склонная к лени мысль выводится из своего ленивого состояния постоянным общением с тем, что делается кругом. Пока же известия доставляются медленно и неопределенно, проходят целые недели, пока пришедшее известие подтверждается, или опровергается, или дополняется другими более верными и подробными. 12 июня французские войска переходят русскую границу, направляются к Москве, в свое время занимают Витебск, а находящийся на самом пути неприятеля, отделяемый от него несколькими переходами, 1-го августа старый князь Болконский утверждает, что «театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель». Через месяц после вступления французов в Россию, «в начале июля, в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны; говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о поражении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию». Способная волновать и поселять нелепые слухи в тревожное время медленность передачи сведений служит в мирное время препятствием для зарождения и распространения критического духа. Этой медленности в передаче сведений отвечает медленность в ходе критической мысли.
IV.
![Граф Ю.П. Литта. [Пис. Лампи(?)]](pic/book50211.gif)
Граф Ю.П. Литта.
[Пис. Лампи(?)]
|
Такова эта общественная группа, крепко сшитая традициями и внутренней дисциплиной, не раздираемая сомнениями, спокойная, согласная и отражающая мир других слоев населения. Нет врагов внутренних, действительных или подозреваемых. Только внешний неприятель, только война — посторонняя, чуждая этому обществу сила — может нарушить мир и вызвать чувства, обычно мало свойственные этому обществу. Но и война не нарушает общего согласия. Князь Андрей может не смотреть на Бонапарта глазами великосветских посетителей салона Анны Павловны; для него это — выдающийся ум, достойный уважения и возбуждающий зависть; для других Бонапарт — авантюрист, к которому можно относиться только как к врагу отечества, обычаев и установленной морали, как к существу презренному и ничтожному. Но и князь Андрей, как другие великосветские посетители салона Анны Павловны, признает необходимость войны с Наполеоном, раз война кем-то начата. Пьер, по наивности своей, думает, что без войны можно обойтись. «Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире — это нехорошо». Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера... «Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было», сказал он. «Это-то и было бы прекрасно», сказал Пьер. Князь Андрей усмехнулся. «Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет». — «Ну, для чего вы идете на войну?» спросил Пьер. «Для чего? — Я не знаю. Так надо. Кроме того, я иду... — Он остановился. — Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!»
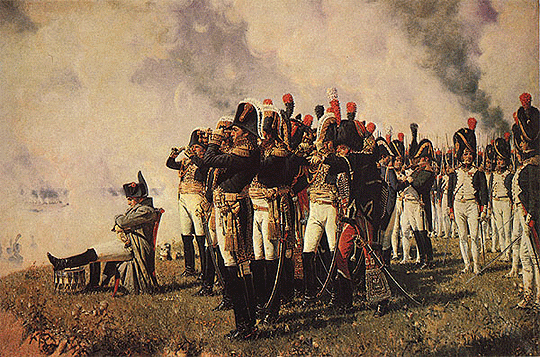
Наполеон на Бородинских высотах.
(Верещагина).
|
Князь Андрей идет на войну против Наполеона, признавая величие последнего почти в той же мере, как Пьер, и не пытаясь критически отнестись к распоряжениям тех, кто вмешался в войны с «величайшим человеком мира». Это отношение заранее обеспечивает если не победу, то стойкость в поражениях. Распоряжения начальства могут быть неумелы, разные диспозиции ненужны и нелепы, мы можем проявить невежество или неспособность, — но в обществе несомневающемся, неколеблющемся, согласном и объединенном отсутствием критического отношения к существующему, есть одна черта, служащая залогом победы, это — уверенность в необходимости предпринятой войны. Возможно поражение, не исключен и совершенный разгром армии, неизбежны в будущем «уроки» войны для наиболее чутких и подготовленных к критике натур, но большинство общества еще долго будет жить уверенностью, что раз война начата тем, кто так высоко стоит в общественном уважении и любви, значит она неизбежна.

Гр. Е.В. Литта.
(Пис. Виже-Лебрен).
|
В этом общественном согласии залог длительной силы для борьбы с противником, залог бодрого отношения к большим поражениям и постоянного обновления сил в маленьких победах. Вы знакомитесь у Толстого со многими сражениями, оканчивавшимися печально для нас, но, как-то странно, рассматриваемые в общественном отражении они производят впечатление не поражения, а победы. Моральное значение для общества даже знаменитой Аустерлицкой битвы далеко не так ужасно, как можно было бы предполагать. Князь Андрей может говорить: после Аустерлицы «я дал себе слово, что служить в действующей русской армии я не буду... Ежели бы Бонапарте стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым Горам, и тогда бы я не стал служить в русской армии». Но князь Андрей видит то, чего не замечают другие; да и слова его — только слова: раньше, чем Бонапарт стоял у Смоленска и угрожал Лысым Горам, он опять вступил в армию, не смотря на вполне определившееся уже отрицательное отношение к войне. Для остальных членов общества даже кампания с Аустерлицкой битвой кажется спустя некоторое время не поражением, а победой. «Были найдены причины тому неимоверному, неслыханному и невозможному событию, что русские были побиты, и все стало ясно, и во всех углах Москвы заговорили одно и то же. Причины эти были: измены австрийцев, дурное продовольствие войска, измена поляка Пржебышевского и француза Ланжерона, неспособность Кутузова, и (потихоньку говорили) молодость и неопытность государя, вверившегося дурным и ничтожным людям. Но войска, русские войска, говорили все, были необыкновенны и делали чудеса храбрости... Со всех сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества, оказанных нашими солдатами и офицерами при Аустерлице. Тот спас знамя, тот убил пять французов, тот один заряжал пять пушек». «Повторялись слова Ростопчина про то, что французских солдат надо возбуждать к сражениям высокопарными фразами, что с немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, чем идти вперед, но что русских солдат надо только удерживать и просить потише!..» И Москва, забывшая о поражении, чествует обедом Багратиона, поднося ему стихи, в которых утверждает: «Да счастливый Наполеон, познав чрез опыты, каков Багратион, не смеет утруждать Алкидов русских боле»... И певчие поют кантату: «Тщетны Россам все препоны, храбрость есть побед залог; есть у нас Багратионы, будут все враги у ног».

Кн. Б.Н. Юсупов.
|
В этом наивном прославлении русской мощи, следующим сейчас же за поражением, нет и следа того напускного и намеренного шовинизма, который употребляется, как орудие борьбы с внутренними врагами для доказательства неправоты последних. В первые годы третьей французской республики, Седан объяснялся бонапартистами тоже, как демонстрация французской мощи; но длинной речи краткий смысл заключался не в действительном признании заслуг французского оружия, а в стремлении обезоружить политических противников, имевших все основания для того, чтобы пользоваться седанским поражением, как доказательством негодности режима Второй империи. Здесь нет ничего подобного. И граф Илья Андреевич Ростов, распоряжавшийся обедом в честь Багратиона, не думает о поражениях, забыл о неуспехе и искренно волнуется торжеством во славу русского героизма, — до такой степени волнуется, что, когда провозглашают тост «за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреевича», он «вынул платок и, закрыв им лицо, совершенно расплакался».

Вечер Бородина. Генерала Коленкура, убитого при взятии Большого редута, переносят его солдаты.
(А. Ля-Роз).
|
Искренность и отсутствие подозрительности к соседу (подозрительности политической) характеризуют отношения этих людей. Когда Николай Ростов в пылу спора, чем-то огорченный и взволнованный, кричит: «Не нам судить... А то коль бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется», — он не упрекает противников в том, что они «рассуждают» и тем обнаруживают свое свободомыслие; он знает, что и без того никто не рассуждает и свободомыслием не занимается. И близкие ему, Борис Друбецкой и Берг, думающие только о выгодах, повышениях, карьере, не находят необходимости при выборе средств для повышения указывать на разрушительный образ действий или мышления соседа. Берг бегает со шпагой в левой руке и каждому встречному заявляет, что он, раненый, остался во строю и только переложил оружие из поврежденной руки в другую. Он правильно рассчитывает, что этого утверждения достаточно для некоторого, нужного ему успеха. В другое время он прибавлял бы к этому средству указание на свой патриотизм и, может быть, даже уверение, что кое-кто из его соседей говорит разрушительные речи. Борис Друбецкой, выдержанный и внешне - корректный молодой человек, умно и тактично делает свою карьеру, сторонясь от прежних друзей, когда своими армейскими манерами они могут компрометировать его в глазах вылощенных и чопорных представителей круга, в котором он может успеть. Но в нем нет и помина того Бориса Друбецкого, который в другое время с серьезно-грустным видом говорил бы о безнравственности и политической неблагонадежности современного поколения и необходимости строгих мер. Лишь эта грустная серьезность озабоченного государственными соображениями человека создала бы ему в другое время репутацию истинно-полезного чиновника и подняла бы его высоко на иерархической лестнице. И князь Василий в другие времена имел бы таинственную физиономию государственного мужа, вся мудрость которого заключается в умении говорить о тревожном времени и о необходимости успокоения; на этом постоянном упоминании о тревожном моменте и беспокойстве в умах он строил бы свое благополучие и удерживал бы свое положение. Все это будет, все это явится, но пока нет поводов для заподозревания кого бы то ни было в разрушительных умыслах. Даже наиболее склонные к самостоятельной работе и критике умы, будущие декабристы, Пьер и подобные ему, не испытывают неудобств от своих исканий и хождения около «идей».

Гр. М.Д. Гурьева.
|
И это так очевидно, так неизбежно вытекает из всего общественного настроения и внутреннего мира, что когда обстоятельства принуждают, во что бы то ни стало найти внутреннего врага, — его найти необычайно трудно. Во всех печальных обстоятельствах общественной, семейной и личной жизни, несчастие становится легче переносимо, когда есть возможность указать его виновника. Кого винить в несчастиях войны, в тех тяжелых испытаниях, которые связаны с вторжением неприятеля в страну? Правительство? Об этом говорят вскользь, как после Аустерлицкого поражения. Тайную «смуту», врагов внутренних, «крамолу», изменников? Где они? Мысль о необходимости экскурсий в эту область является порывом вдохновения у Ростопчина, побуждаемого настоятельной необходимостью как-нибудь снять с себя тяжелую ответственность и отвлечь от себя внимание взбудораженной толпы. Только вызванный такими исключительными обстоятельствами порыв вдохновения мог создать внутреннего врага из беспомощной фигуры молодого Верещагина.
В чем вина несчастного купчика, тщетно взывающего к Ростопчину: «граф, один Бог над нами?» В каком отношении к общему настроению находится она?.. Тщедушная фигура Верещагина проходит перед нами случайным эпизодом, еще более демонстрируя отсутствие в обществе элементов протеста и критики. И когда толпа, подстрекаемая Ростопчиным, кончает расправой над Верещагиным, в ней, в этой толпе, нет того озлобления и чувства справедливой мести, которые непременно должны сопровождать всякое проявление народного самосуда над тем, кого толпа считает своими действительными врагами. Расправа над Верещагиным — исключение и, как это в большинстве случаев бывает, исключение подтверждает правило об отсутствии у того общества стремления к поискам внутренних врагов и заподозреваниям соседа...
V.

Гр. И.С. Лаваль.
|
Если бы то настроение, которое преобладало в момент, изображенный в начале «Войны и мира», могло благополучно сохраниться до вторжения французов в Россию, то принятый ходом событий характер «Отечественной войны» был бы легко объясним. Но уроки времени, войн, напрасных ожиданий меняют настроение общества. И эта перемена отмечена Толстым. До 1812 года не остается во всей силе ни довольство распоряжениями правительства, ни восторженное преклонение перед личностью Александра I. Личные удары, наблюдения, опыт заставляют видеть то, на что до того времени не открывались глаза. По получении (оказавшегося потом неверным) известия о смерти сына, старый князь Болконский уже не может удержаться от общих выводов о бессмысленности распоряжений, «губящих армию, лучших русских людей и русскую славу». «Мерзавцы, подлецы! — закричал старик, отстраняя от нее (от княжны Марьи) лицо. — Губить армию, губить людей! За что?..» — «Батюшка, скажите мне, как это было?» спросила она сквозь слезы. «Иди, иди, убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу...»
Личные несчастия, впечатления действительности, все те наблюдения, которые пришлось сделать князю Андрею во время его постоянных сношений с военным начальством, во время свиданий с Аракчеевым, со Сперанским, перевертывают его прежние мнения о войне, и война, о которой в разговоре с Пьером после вечера у Анны Павловны он отзывается, как о чем-то неизбежном, необходимом, как о деле, в котором он сам может найти исход из неприятностей петербургской жизни, оказывается, накануне Бородинского сражения, уже «самым гадким делом в жизни». И еще до Бородинского сражения, до нашествия французов, но после вынесенных впечатлений от войн и наблюдений над русскими порядками он говорит тому же Пьеру, что после Аустерлица ни за что не пойдет служить в армию...
«В начале зимы (1811 года), князь Николай Андреевич Болконский с дочерью приехал в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению на ту пору восторга к царствованию императора Александра и потому антифранцузскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреевич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству».

Графиня Лаваль.
|
Появилась «оппозиция», пока еще не вполне определившаяся и охотно выбирающая своим центром отживающего князя «старого века». Это — детство и наивность, конечно, но нет уже прежней безмятежности и доверчивости, хотя нет еще и тех вполне определившихся упреков и требований правительству, тех организованных протестующих сил, которые явятся позднее.
Люди с более развитым критическим умом, с деятельной мыслью видят настоятельную необходимость и неизбежность коренных общественных переустройств, — одни во имя справедливости, другие во имя духовных интересов того сословия, которое, по их мнению, является единственным носителем человеческого достоинства. «Ну, вот ты хочешь освободить крестьян, — говорит князь Андрей Пьеру. — Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь) и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого нисколько не хуже.
В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как и был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко и для кого я желал бы освободить крестьян... Так вот чего мне жалко — человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их спин и лбов, которых сколько ни секи, сколько ни брей, все останутся такими же спинами и лбами».
Но ни эти желания, ни наивная «оппозиция», выбирающая своим центром старого князя Болконского, не вырастают до размеров требований и, конечно, далеки от какой-нибудь организованности. Неопределенное недовольство может быстро исчезнуть под влиянием общего несчастия и прежнее согласие чувств и действий может вновь проявиться с прежней силой, как только обстоятельства покажут его необходимость.

Кн. Х.А. Ливен.
|
В июне 1812 года наступает этот момент, начинается период последнего движения народов с запада на восток, которое по «закону необходимости» должно завершиться обратным движением с востока на запад. Неприятель, бывший то нашим врагом, то союзником, то победителем, наносившим нам поражения, которые мы праздновали, как победы, то бивший нас наравне с австрийцами, нашими союзниками, то бивший австрийцев при нашей помощи, наконец, вторгается в Россию. Как ни медленно идут известия, как ни недовольны направлением правительственной деятельности «оппозиционеры», но настроение общее по согласности напоминает то, что было в начале войн с Наполеоном. Князь Андрей, который заявлял, что после Аустерлица он ни за что не вступит в ряды армии, опять служит и опять военным. Пьер, который когда-то находил нелепою войну против «величайшего человека в мире», переживает целый ряд настроений, из которых постепенно вырастает уверенность в необходимости подвига для спасения России, убийства Наполеона. Это — наиболее думающие, наиболее склонные к «оппозиции» люди. Все остальное чувствует, не рассуждая, и сливается в едином стремлении, сходном с тем, которое переживал Николай в былые времена. Что Петя Ростов, шестнадцатилетний мальчуган, переживает минуты восторга при виде Александра I, в этом нет ничего удивительного; но в одних чувствах с ним сливается толпа молодых и старых чиновников и купцов, кучеров и неизвестных старух. Когда государь после службы в Успенском соборе, пройдя во дворец и пообедав, вышел на балкон, толпа, уже пережившая за этот день не мало волнений, вновь хлынула ко дворцу. «Ангел, батюшка! Ура! Отец!» кричали народ и с ним Петя, и опять бабы и некоторые мужики послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастья. Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перила балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит и, как-будто боясь опоздать, опять закричал «ура!» уже охриплым голосом. Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться. «Вот я говорил, что еще подождать, так и вышло», с разных сторон радостно говорили в народе.
Чтобы испытывать такую «радость», в восторге ловить бросаемые с балкона бисквиты, надо было видеть в Александре I существо, деяния которого сливаются с желаниями и требованиями этой толпы, — видеть, конечно, не сознательно, а постигать тем неуловимым чувством, которое заставляло проливать слезы при криках «ура!» и проявлять потом «народную волю» в действиях, согласных с действиями русской армии.

Кн. Д.Х Ливен.
(Пис. Лоренс).
|
В то время, как толпа переживала своеобразную радость около Успенского собора и над балконом кремлевского дворца, высшее сословие тоже с подъемом чувств готовилось к войне с врагом. Сначала в дворянском собрании, собравшемся по поводу воззвания государя, «как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство, толки были нерешительны и неопределенны». Но скоро все переменилось: и платонические любители западных теорий о contract social, и ярые и нерассуждающие сторонники «нерассуждения», все стремились доказать свою готовность «положить живот на алтарь отечества». В изображении Толстого сцена заседания дворян при обсуждении их участия в войне комична в высокой степени: здесь и вполне ясное понимание того, «где стоять предводителям в то время, как войдет государь», и совершенное непонимание того, что нужно сейчас для страны, и желание краснобайства, и тоскливые помыслы немногих, если не о конституции, то хотя бы о том, чтобы «почтительнейше просить его величество комюникировать нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армия».
Здесь, как всегда и везде, пламенно-патриотические, наиболее «благородные» и более всего поражающие шумихой громких слов речи шулеров и темных личностей. Наиболее потряс присутствующих и заслужил одобрительные возгласы человек «среднего роста, лет сорока, которого Пьер в прежние времена видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты». «Не время рассуждать, — говорил голос этого дворянина, — а нужно действовать: война в России. Враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтобы увести жен, детей.— Дворянин ударил себя в грудь. — Мы все встанем, все поголовно пойдем за царя-батюшку! — кричал он, выкатывая кровью налившиеся глаза. Несколько одобряющих голосов послышались из толпы. — Мы русские и не пожалеем крови своей для защиты веры, престола и отечества. Мы покажем Европе, как Россия встает за Россию!» кричал дворянин.
Эта подходящая и для позднейших времен сцена, когда говорило не столько воодушевление общим делом, сколько желание показать преданность и ненависть к инакомыслящим, кончается, однако, общей растроганностью и слезами. После принятого дворянством решения о пожертвовании 10 человек с 1000 с полным обмундированием, растроганный Александр говорит дворянам короткую речь «дрогнувшим голосом». Речь купцам, собравшимся в том же здании, в другой зале, сопровождалась еще большей растроганностью. «Государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Пьер увидал государя, он выходил сопутствуемый двумя купцами. Один был знаком Пьеру: толстый откупщик, другой — голова с худым, узкобородым желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал, как ребенок, и все твердил: «И жизнь, и имущество возьми, ваше величество!»

Гр. Н.А. Толстой.
|
И в полной гармонии с этим общим умилением безразличных, честных, шулеров и откупщиков было настроение «конституционалистов», подобных Пьеру. «Пьер не чувствовал в эту минуту уже ничего, кроме желания показать, что все ему ни по чем и что он всем готов жертвовать (ранее волновавшиеся и ораторствовавшие дворяне также стремились «показать, что нам все ни по чем»). Как упрек ему представилась его речь с конституционным направлением; он искал случая загладить это». И конституционалист, человек, искренно стремившийся к освобождению крестьян, «узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухой тут же объявил Ростопчину, что он отдает 1000 человек и их содержание».
Долго ли держалось общее оживление? «На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам и, покряхтывая, отдавали приказания управляющим об ополчении и удивлялись тому, что они сделали». Так изображает Толстой вспышки воодушевления со следовавшим за ними обычным, далеким от всей жизни государства, будничным существованием. Так было в барских усадьбах, так было и в Петербурге. «В Петербурге в это время в высших кругах с большим жаром, чем когда-нибудь, шла сложная борьба партий Румянцева, французов, Марии Федоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по-старому; из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги». Конечно, жизнь общества идет своей непрерывной чредой, часто вне видимого общения ни с политической жизнью страны, ни даже с потрясающими ее внутренними или внешними катастрофами. В сильный разгар французского нашествия, когда неприятель был в немногих десятках часов перехода от усадьбы Лысые Горы, князь Андрей видел, как «две девочки со сливами в подолах, которые они нарвали с оранжерейных деревьев, бежали оттуда и наткнулись на князя Андрея. Увидав молодого барина, старшая девочка, с выразившимся на лице испугом, схватила за руку свою меньшую товарку и с ней вместе спряталась за березу, не успев подобрать рассыпавшиеся зеленые сливы... Новое, отрадное и успокоительное чувство охватило его, когда он, глядя на этих девочек, понял существование других, совершенно чуждых ему и столь же законных человеческих интересов, как и те, которые занимали его...» Конечно, другие интересы и другая жизнь, чуждые общегосударственным интересам, существуют и в минуты наиболее потрясающих национальных катастроф, конечно, для многих эти чуждые общей жизни интересы имеют большее значение, чем то, что переживает в данный момент родина, но оторваться от общей жизни нельзя, и эти, удивлявшиеся собственным жертвам, дворяне вскоре приняли участие в подготовлении того пути к поражению французов, который был выбран, по определению Толстого, «волею народа».
VI.
Неприятель приближался. Если не воодушевление, то беспокойство должно было вносить его движение. Общество, не раздираемое внутренними конфликтами, согласное до такой степени, что даже противники крепостного права отдавали силой тысячи своих мужиков в солдаты, на свой счет обмундировывая их, не могло, конечно, разделяться в своих воззрениях на значение неприятельских побед. В торжестве французов было бедствие для всех, — бедствие, признаваемое и Пьером, и князем Андреем, и произносившим патриотическую речь шулером, и все время рыдавшим на дворянском собрании графом Ильей Андреевичем Ростовым. Никаких очевидных доказательств нашего дурного управления, черпаемых в успехах неприятельских войск, никто не хотел видеть. То, что мы не раз замечали потом в нашей истории (так же, как в истории других народов), — рост критического отношения к порядкам управления, идущий вместе с поражениями наших войск и становящийся тем очевиднее, чем громче неприятельские победы и чем ближе подходит неприятель, здесь совершенно не наблюдается. Князь Николай Андреевич Болконский, который мог после Аустерлица говорить: «мерзавцы, подлецы, погубили армию, погубили лучшие русские силы», протестовал против распоряжений, а не против порядков дарования. В 12-м году он, вопреки очевидности, отказывается верить успехам неприятеля и повторяет: «дальше Немана никогда не проникнет неприятель». Дух не падает от неудач. Уверенность в успехе растет вместе с победоносным шествием врага. Накануне Бородинского сражения, много выстрадавший, скептически настроенный, желчный и озлобленный князь Андрей, готовый признать необходимым расстрел пленных для того, чтобы поразить жестокое дело войны еще большей жестокостью, говорит Пьеру о своих разочарованиях и все-таки выражает уверенность в победе. «Хочешь, я тебе скажу, что, что бы там ни было, что бы ни путали там вверху, — говорит он Пьеру, — мы выиграем сражение завтра. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!» — «Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, — проговорил Тимохин, — что себя жалеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку пить: не такой день, говорят...»

Н.В. Нарышкин.
(Рис. Кауфман).
|
Эта уверенность в победе остается после победоносного шествия неприятеля, перед кровопролитнейшим сражением и даже после него несмотря на отступление. И, — в противоположность тому, что было много позднее, — чем больше успехи неприятеля, тем сильнее уверенность, что его необходимо и можно победить, тем более сознание всеобщего страшного бедствия в случае окончательной победы французов. И если есть какой-нибудь слой населения, возлагающий какие-то смутные надежды на благие последствия французского нашествия, то это — слой не интеллигентный, тот самый простой народ, которому обыкновенно приписываются в высокой степени патриотические и ненавидящие неприятеля чувства. Да и в этом слое лишь небольшая часть соединяет с французским нашествием какую-то смутную мысль о лучшей участи. Крестьяне князей Болконских поражены приходом неприятеля, но для них неизвестно, что сулит большую беду, неприятельское ли нашествие или русские казаки. «Противно тому, что происходило в полосе Лысых гор на шестидесятиверстном расстоянии, где все крестьяне уходили (предоставляя казакам разорять свои деревни), в полосе степной, в Богучаровской, крестьяне, как слышно было, имели сношение с французами, получали какие-то бумаги, ходившие между ними, и оставались на местах... Ездивший на днях с казенною подводою мужик Карп, имевший большое влияние на мир, возвратился с известием, что казаки разоряют деревни, из которых выходят жители, но что французы их не трогают... Другой мужик вчера привез даже из села Вислоухова, где стояли французы, бумагу от генерала французского, в которой жителям объявлялось, что и им не будет сделано никакого вреда, и за все, что у них возьмут, заплатят, если они останутся. В доказательство того мужик привез из Вислоухова сто рублей ассигнациями (он не знал, что они были фальшивые), выданные ему вперед за сено». Под влиянием этих слухов Богучаровские крестьяне решают не выезжать из деревни и даже не выпускать помещицу княжну Марью. «Когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпою к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей. Алпатычу отвечали, что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть, а что пускай княжна остается, и они по-старому будут служить ей и во всем повиноваться»... Нескольких ругательств внезапно наехавшего Николая Ростова, однако, достаточно, чтобы мужики покорились и помогли вязать «зачинщиков».

Перед Москвой. Ожидание депутации бояр.
(Верещагина).
|
Неопределенному настроению некоторых крестьян отвечало вполне определенное стремление других, поднявших «дубину», так же как и помещиков. Бежать из деревень, уходить от неприятеля заставлял не один страх, а желание сохранить свое достоинство. Княжна Марья решила уехать во что бы то ни стало. Ее решимость увеличилась после того, как она узнала об уверении французского генерала Рамо, что оставшимся жителям ничто не угрожает и что им будет оказано должное покровительство. «Чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтоб она, дочь князя Николая Андреевича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями! Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости... Для нее лично было все равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было, но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея»...

Д.Л. Нарышкин.
(Пис. Гуттенбрунн).
|
Итак, слагаемое из разнообразных побуждений продолжается движение мирных жителей от французов. Совершается нечто называемое Толстым то «законом необходимости», то «волей народа».
VII.
Война 12 года в пределах России представляется Толстым в виде чего-то среднего между сознательным стремлением всего народа и бессознательным исполнением какой-то вне человека находящейся воли или судьбы. Когда Кутузов отступает и противится столкновению с наступающим неприятелем, когда позднее он препятствует задержке уходящего неприятеля, — он способствует в первом случае растягиванию неприятельской линии и ослаблению врагов, во втором — очищению России от французов. И то и другое он совершает, как-будто заранее имея в виду определенную цель и как-будто осуществляя какую-то волю народа. «Трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так неизменно, постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель более достойную и более совпадающую с волей всего народа. Еще труднее найти и другой пример в истории, где бы цель, которую поставило себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута». Это, с одной стороны: была цель у Кутузова, которая осуществлялась и осуществилась, была воля народа, с которою эта цель отдельного человека вполне сходилась. Но, с другой стороны, было ли что-нибудь волевое, сознательное во всей этой кампании? Нет! Потому что все кажущиеся нам преднамеренными действия народа на самом деле были естественным развитием событий без всякого «заранее обдуманного намерения». Что такое пожар Москвы? Осуществление воли народа? Приводимый в исполнение сознательный план войны, который должен был сделать невозможным пребывание французов в столице? Ничуть не бывало. Толстой объясняет: «Причин пожара Москвы в том смысле, чтоб отнести пожар этот на ответственность одного или нескольких лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются или не имеются в городе 130 плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загораться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях — владельцах домов и при полиции бывают почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день»... Пожар Москвы — не последствие обдуманного плана, не самопожертвование геройского народа, готового сжечь свои домы, погубить имущество, переносить лишения, лишь бы уничтожить общего врага. Это — и не случайность. Пожар неизбежно должен был возникнуть на основании закона необходимости, независимого от человеческого обдумывания и человеческой воли. Все, что делал народ, все, что совершалось войсками, отступавшими и воздерживавшимися от нападения, совершалось согласно тому же закону.

Гр. Д.П. Бутурлин.
|
Не оставить Москву было нельзя, а оставив Москву и впустив в нее неприятеля, уничтожали французскую армию. «Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до 1/2 части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожилось войско и образовались не жители и не солдаты, а что-то среднее, называемое мародерами». Справиться с чужеземными «мародерами» для русских войск и жителей, воевавших с французами в своей стране, уже не представило большого труда.
Так, по Толстому, ни героизм отдельных личностей, ни какая-нибудь особая, объединяющая всех, ненависть к неприятелю или особое захватывающее патриотическое чувство не были той силой, которая подсказала план действий для целесообразного изгнания неприятеля. Действовала сила вещей, руководил закон необходимости.

Гр. А.М. Мусин-Пушкин.
|
Героизм отдельных личностей. Он был, конечно. Но служил ли он для той цели, которой так хорошо, по мнению Толстого, достиг Кутузов? Несомненно геройски вел себя князь Андрей и под Аустерлицем и под Бородиным. Героем в глазах начальства и товарищей был Николай Ростов, атаковавший французских улан. Наконец, — историческая личность, — Багговут умер «геройской смертью. Но зачем этот героизм?» Как изображает Толстой хотя бы смерть Багговута?
«Толь... старательно скакал из места в место и везде находил все навыворот. Так он наскакал на корпус Багговута в лесу, когда уже было совсем светло, а корпус этот давно уже должен быть там с Орловым-Денисовым. Взволнованный и огорченный неудачей и полагая, что кто-нибудь должен быть виноват в этом, Толь подскакал к корпусному командиру и строго стал упрекать его, говоря, что за это расстрелять следует. Багговут, старый, боевой, спокойный генерал, тоже измученный всеми остановками, путаницею, противоречиями, к удивлению всех, совершенно противно своему характеру, пришел в бешенство и наговорил неприятных вещей Толю. «Я уроков принимать ни от кого не хочу, а умирать со своими солдатами умею не хуже другого», сказал он и с одной дивизией пошел вперед. Выйдя на поле под французские выстрелы, взволнованный и храбрый Багговут, не соображая того, полезно или бесполезно его выступление в дело, теперь, и с одною дивизией, пошел прямо и повел свои войска под выстрелы. Опасность, ядра, пули были то самое, что ему было нужно в его гневном настроении. Одна из первых пуль убила его, следующие пули убили многих солдат. И дивизия его постояла несколько время без пользы под огнем».
А вот распоряжения Милорадовича и грозные атаки русских на отступающих французов. «Дарю вам, ребята, эту колонну», говорил он (Милорадович), подъезжая к войскам и указывая кавалеристам на французов. И кавалеристы на еле двигающихся лошадях, подгоняя их шпорами и саблями, рысцой, после сильных напряжений, подъезжали к подаренной колонне, т.е. к толпе обмороженных, закоченевших и голодных французов, и подаренная колонна кидала оружие и сдавалась, чего ей уже давно хотелось».

Кн. С.И. Гагарин.
|
А ненависть к неприятелю? Вот русские, — между ними Каратаев и Пьер, — в плену у французов, — и нет следа ненависти между обоими неприятелями. Французы ласково называют Каратаева «Платош», обмениваются услугами и даже понимают тончайшие движения души один другого, совершенно не понимая языка. К русским попадает в плен французский капитан Рамбаль со своим денщиком Морелем, и опять-таки, кроме забот и предупредительности, нет ничего в этих отношениях. Но иные чувства, иные отношения проявлялись сразу, как только какая-то внечеловеческая сила воодушевляла и толкала их, и тогда, не считаясь с распоряжениями начальников и остроумными планами генералов, все делалось само собою. «Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».

С.С. Апраксин.
(Пис. Лампи).
|
Так сила вещей и закон необходимости подняли «дубину», которая сокрушила все. Но, сколько бы Толстой ни настаивал на невозможности постигнуть «совокупность причин», для историка сила вещей может быть прочитана в расположении общественных сил, в отношениях различных общественных категорий, в составе общества. Толстой дает замечательную картину жизни одной группы общества, и, смотря на эту картину, мы заранее видим, что окончательного поражения это согласное, не раздираемое сомнениями, включающее в себя действительную elite по уму и образованности так же, как по знатности, богатству, чопорности и легкомыслию общество не может быть побеждено. Кроме легкомыслия, которое при известных условиях огромная слабость, при других — большая сила, здесь — сила стойкости, сила веры в невозможность других общественных отношений и в собственные силы. Если легкомыслие побуждает праздновать поражения, как победы, и таким образом препятствует критическому отношению к действительности, то оно же поддерживает веру в силы и несокрушимость, а отсутствие сомнений создает условия благоприятные для согласного единения в общем деле. В «Debacle» Золя мы на нескольких стах страницах знакомимся с передвижениями отряда, который начал кампанию криками «a Berlin». Отряд идет в одно место, передвигается в другое, питается слухами, начинает жить сомнениями, понемногу дезорганизуется, теряет дисциплину, теряет стойкость. Он еще не встретился с неприятелем, но уже разбит, уже раздавлен силою вещей, «печальным законом необходимости». В «Войне и мире» — обратное. Слышно о поражениях, известно о победах неприятеля, нельзя и представить себе всех бедствий, связанных с проникновением неприятеля в страну, но, знакомясь с этим обществом, вы с трудом верите в возможность окончательных поражений, вы видите в его спокойствии и стойкой вере в свою правоту и силу — залог окончательной победы. Вы знаете, что, действительно, объединятся в общем деле и те передовые, сильные не только богатством и знатностью, но умом, пытливостью, сознанием действительного достоинства, элементы, которые позднее почти совсем покинут «первенствующее сословие», и другие, чванные, ищущие «рублей, крестов и чинов». В Бородинском сражении князь Андрей лежит смертельно раненый рядом с глупым, пошлым, гаденьким и животно-красивым Анатолем Курагиным. В партизанской войне принимают участие, рядом с честным гулякой и рубакой Васькой Денисовым, чистый увлекающийся, славный мальчик, Петя Ростов и органически-испорченный, наглый, храбрый до дерзости дуэлянт и шулер Долохов. И даже Пьер, который никак не мог найти себе места в обществе, который колебался между дипломатией и военной службой, который искал правды при помощи масонов и признавал когда-то Наполеона величайшим человеком в мире, — даже Пьер чувствует необходимость возложить на себя бремена тяжкие для работы в общем деле. Перед ним раскрывается неизбежность самопожертвования, необходимость убийства Наполеона и орудием убийства, мстителем за бедствия родины, за несчастия человечества должен быть не кто иной, как он сам, Пьер Безухов или, как переиначивал он в своих вычислениях и стремлениях подогнать свое имя к числу 666, l'Russe Besuhof. Угрожавшая ему смертная казнь, плен, лишения были последствием этой его решимости пожертвовать собой ради спасения России от французов. А рядом с этой готовностью Пьера, князя Андрея, Пети Ростова, Долохова и даже Анатоля Курагина жертвовать жизнью, — готовность других бросить имущество ради общего дела. Наташа Ростова предлагает бросить все имущество, собранное и связанное на десятках подвод, и отдать подводы под раненых, которых вместе с здоровыми надо отправить из Москвы; с наставлениями увлекающейся девочки соглашается старый граф, ее отец, и даже графиня-мать, ранее утверждавшая, что здесь «на 100 тысяч добра» и что «на раненых есть правительство», даже она соглашается, что общее дело должно вытеснить частные интересы, и отдает под раненых подводы, предназначенные для «добра».
Так и народ, поднявший «дубину», и различные элементы избранного общества, будущие «декабристы» так же, как граф Милорадович, павший позднее жертвой декабристов, — все сходились в одном чувстве, все работали в одном общем деле. Было нечто, находившееся вне воли отдельных лиц, был «закон необходимости», сделавший неминуемым разгром французской армии, но так, как изображает дело Толстой, самое построение, самый дух всего общества способствовали осуществлению этого закона. «Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки», говорит Толстой, объясняя успех финала войны для русских. Но чтобы иметь желание драться и проявлять его рядом с другими, которых, несмотря на различие мнений, вкусов, духовной организации, признаешь сотоварищами, — для того, чтобы иметь такое страстное не сдерживаемое сомнениями желание, надо не волноваться разъединяющими вопросами, которые позднее будут захватывать значительную часть русского общества. Тогда этих вопросов не было или, во всяком случае, они не имели той остроты, которую получили много позднее.
VІІІ.

Е.П. Ростопчина.
|
Война, как и ночь, porte conseil. То общество, которое пережило войну 12-го и следующих лет, которое отправило многих своих сочленов в Париж и потом, встретив в России их возвращение, стало отдыхать от всего пережитого, — это общество было уже не тем, каким в 1805 году входило в салон Анны Павловны. Был другой строй мысли, другие разговоры, иной род отношений. Появились вопросы, которые прежде и не снились мудрецам салона, стали рассуждать в ином направлении, стали искать сближений не на основании личных симпатий, а руководствуясь соображениями политическими, теми или иными воззрениями на государственные учреждения. Понятие об этом было, конечно, и прежде, но тогда оно не принимало вид недовольства, недовольство не имело степени остроты. Тогда Пьер и князь Андрей, люди близкие по желанию найти истину, рассуждали по возвращении из салона Анны Павловны о личной судьбе, о теоретических вопросах, не касающихся перемен строя в России и неудовлетворительности ее государственных порядков. Их волновал Бонапарт, участие или неучастие России в войне с ним; их занимал вопрос, сделается ли Пьер военным или дипломатом, уедет ли князь Андрей на войну и почему уедет, возможно ли существование народов без войны или нет. Теперь вопросы — иные и иная острота разговоров.
Между 12 и особенно 1805 и 1820 годами — пропасть, которая в романе Толстого ничем не заполнена. Мы не знаем, чем и как в восьмилетний период между изгнанием французов и полным миром 1820 года жило великосветское общество, какие впечатления получало оно из походной жизни, из других слоев населения. Роман оставляет «войну» и дает несколько сценок «мира». Но в этих сценках мы видим приближение новой надвигающейся войны, уже не с внешним неприятелем, а войны внутренней. Мы видим, что страшные испытания, пережитые русским обществом, не могли пройти бесследно: мысль направилась на критику общественных отношений, появились признаки общественного расчленения и новой группировки общественных стремлений и намерений.

Московский предводитель дворянства П.Х. Обольянинов.
(С портрета Боровиковского).
|
То мирное согласие, с которым жило общество, посещавшее салон Анны Павловны в 1805 году, тот странный симбиоз князя Андрея и Ипполита Курагина, Пьера Безухова и князя Василия, — симбиоз, который изображен в начале романа, мог продолжаться лишь до тяжелых потрясений, испытанных русским обществом за время Отечественной войны. Только полное спокойствие, полный мир, внутренний и внешний, могут удержать князя Андрея на одной дороге с Анатолем, могут сделать из Пьера послушного исполнителя желаний князя Василия. «Органический» период кончается с пробуждением сильной критической мысли, а это пробуждение неизбежно после того, что видели князья Андреи и Пьеры за время войны в России, что видели русские войска за границей.
До войны наиболее самостоятельные умы общества шли позади правительства. Князь Андрей исполнял не собственный самостоятельно выработанный план, когда принимал меры, делавшие из крепостных крестьян «вольных хлебопашцев». Он шел за правительством, за теми членами его, которые совмещали в себе maximum тогдашней прогрессивной мысли. Он делал над собой усилие, чтобы сохранить свою самостоятельность, но не мог, видя в некоторых членах правительства людей, которые далеко обогнали его в помыслах о том, что нужно для государства. Князь Андрей видел в Сперанском, например, «разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти, употребляющего ее только для блага России. Сперанский в глазах князя Андрея был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий значительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть. Все представлялось так просто, ясно в положении Сперанского, что князь Андрей невольно согласился с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным и не совсем подчиняться мнениям Сперанского». Если за этим увлечением последовало разочарование, то оно касалось некоторых сторон характера Сперанского, а не существа того несомненного положения, что правительство шло не только впереди общества, но и впереди наиболее передовых членов этого общества.

Толстой—отец.
|
Теперь, в 1820 году, отношения иные. Правительство не удовлетворяет; оно идет позади общественных требований, оно не может объединять около себя наиболее прогрессивные и мыслящие элементы. Оно возбуждает против себя одних, находит мало думающих защитников в других; его деятельность способствует расчленению великосветского общества по политическим убеждениям и социальным взглядам. Теперь Пьер, возвратясь из Петербурга, говорит, что внутренние дела идут «скверно» и не только это — его собственное замечание, но мнение «всех». «Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил». Он поясняет далее свою мысль: «В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселение, — мучат народ; просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет», говорил Пьер (как с тех пор, как существует правительство, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди). И хотя такие разговоры ведутся «с тех пор, как существует правительство», но не ими характеризовались беседы друзей в 1805 году. Ни Пьеру, ни князю Андрею, ни Николаю, или подобным им не приходилось со второго слова натыкаться на вопросы об отношении к правительству и к несовершенствам русской государственной машины. Тогда в семье Ростовых недовольство между сочленами могло возникать только из-за больших денежных трат или из-за желания сына, в минуту предстоящего денежного краха, жениться на бесприданнице. Теперь по ничтожному поводу без желания спорить и высказываться возникают недоразумения. Денисов за обедом расспрашивает возвратившегося Пьера «то о только что случившейся истории в Семеновском полку, то об Аракчееве, то о библейском обществе». «Библейское общество, это теперь — все правительство», отвечал Пьер. «Это что же, mon cher ami? — спросила графиня, отпившая чай и, видимо, желая найти предлог для того, чтобы посердиться после пищи. — Как это говоришь: правительство? Я это не пойму». — «Да знаете, maman, — вмешался Николай, знавший, как надо было переводить на язык матери, — это князь А. Н. Голицын устроил общество, так он в большой силе, говорят». — «Аракчеев и Голицын, — неосторожно сказал Пьер, — это теперь все правительство. И какое! Во всем видят заговоры, всего боятся». — «Что ж, князь Александр Николаевич-то чем же виноват? Он очень почтенный человек. Я встречала его тогда у Марьи Антоновны, — обиженно сказала графиня и, еще больше обиженная тем, что все замолчали, продолжала: — Нынче всех судить стали. Евангелическое общество, — ну, что ж дурного?» и она встала (все встали тоже) и с строгим видом поплыла в диванную к своему столу.

Расстрел французских поджигателей.
(Шебуева).
|
Это, конечно, не принципиальный раздор, но это — указание на то направление, в котором возможны раздоры. Если семейный обед не обходится без разногласий по вопросу о «правительстве», хотя бы в той наивной форме, как понимает это графиня, то как надеяться, что в обществе не возникнет распадения мнений не по поводу вопроса о назначении министром того-то, генерал-губернатором того-то, а по поводу самой формы правления и средств к ее перемене? И действительно, малейшее продолжение разговора уже приводит к столкновению между Пьером, будущим декабристом, и Николаем Ростовым, недалеким, но по-своему честным, бывшим гусарским офицером, который, по натуре своей, склонен к тому, чтобы «не рассуждать», а или повиноваться приказаниям или самому бить в зубы. «Я тебе скажу, — говорит Николай Ростов Пьеру, — ты лучший друг мой, ты это знаешь, но составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить, — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди, как хочешь».

Л.Н. Толстой. (Крамского).
|
Возможны ли теперь те согласные отношения, которые так ярко выступают в период первых войн с Наполеоном так же, как в эпоху Отечественной войны? Эти люди, идя вместе, уже не будут одним телом и одной душой. И не потому только, что они различных убеждений, а потому, что критическая способность одних значительно переросла те формы политической жизни, в которых этим людям приходится законно действовать, потому что прямой вывод из всех рассуждений Пьера — внезаконное действие и противодействие правительству. «Mot d'ordre пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность... Мы только для того, чтобы Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтоб Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого беремся рука с рукой, с одною целью общего блага и общей безопасности». А Денисов, один из героев партизанской войны, носящий мундир отставного генерала, прибавляет к словам Пьера о том, что творится у нас, о тайных обществах, немецком тугенбунде. «Все скверно и мерзко, я согласен; только тугенбунд я не понимаю; а не нравится — так бунт, вот это так. Je suis votre homme».
Как-будто перед нами два разные общества... Одно — дремлющее и спокойное, плачущее от радости при виде Александра I, способное просыпаться только под гром барабанов и крики: «гром победы раздавайся»; другое — возбужденное, недовольное, восклицающее: «если бунт, je suis votre homme». Уже нет прежнего единения в действиях, выборе карьеры, в направлении деятельности, как бы различно ни было духовное содержание этих отдающих себя одной деятельности людей. Теперь разъединение полное: для одних представляется невозможной законная деятельность, другие видят себя в необходимости выступить против «бунта». Идиллия внутреннего мира кончилась, началась внутренняя борьба. Война 12-го года, соединившая всех по закону необходимости, для осуществления «народной воли», привела на основании того же закона к разъединению общественных элементов, к той войне, которая после того длилась, затихала, возобновлялась, принимала различные формы и различные степени остроты, и которая не кончилась до сих пор.
Так изображает Толстой изменения общественной физиономии в начале ХІХ-го века. Исторические взгляды великого писателя, его объяснения различных моментов войны, действий военачальников, влияния личностей и масс не раз оспаривались и подвергались критике. Но, каковы бы ни были эти взгляды, картина общественной жизни, эволюции отношений в том слое общества, который интересует Толстого, — картина яркая и цельная поражает своей жизненностью и близостью к действительности.
И. Игнатов.